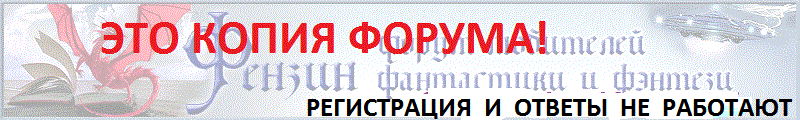Ставрос
Модератор: K.H.Hynta
Ставрос
Глава 1
Крики гребцов-каторжников – возгласы мучительной натуги, вырывавшиеся разом из десятков грудей, - долетали даже в трюм, вместе с морской водой, хлеставшей в борта. Рабы, запертые под палубой, – и те, кто сидел свободно, тонкокостные юноши, женщины и дети, и те, мужчины посильней, на ком были цепи, - от этих криков вздрагивали и забывали о собственной участи. Попасть гребцом на греческий дромон* – судьбу страшнее трудно было вообразить.
Ромеи, хрустевшие нарядными сапогами по кораблю над головами невольников, одетые в золото господа с намасленными кудрями, были ласковыми в глаза, за глаза же - хитрыми и лживыми сверх всякой меры. И суда их, ходившие из Царьграда за богатствами чужих земель, редко возвращались пустыми.
Среди же живого товара особенно ценились женщины и юноши русов – выносливые, плодовитые матери, сильные работники, красивые наложницы… и наложники. Сейчас ценные пленники из Московии, которую ромеи называли Великою Русью*, сидели, сбившись вместе: несколько женщин всхлипывали, остальные угрюмо молчали. Одна из молчавших рабынь, постарше, еще красивая и сановитая женщина, в богатой одежде, держала руку безбородого отрока, очень на нее похожего. Лицо у нее застыло от неизбывной муки, а юноша украдкой глотал слезы.
Девушка с темными глазами и волосами, постарше этого рабичича и непохожая на него и страдавшую за него женщину, протянула руку и погладила старшую по плечу.
- Может, обойдется еще, матушка…
Та неожиданно спокойно взглянула на девицу.
- Может, и обойдется. Если Господь сподобит, - проговорила женщина. Она сжала губы и перекрестилась. – А нет – я его никуда не отдам, пусть казнят обоих вместе, как вместе брали!
Девушка вздрогнула, вместе с отроком. Им обоим еще очень хотелось жить. Но рабичич остался сидеть, безвольно опустив плечи, а девушка подняла голову и перекрестилась вслед за старшей.
Сухой рот женщины тронула улыбка.
- Тебя как звать-то? Крещеным именем? – спросила она.
- Желанью, - ответила юная рабыня. Она потупилась, потом опять взглянула на старшую: щеки тронул румянец. – Меня так отец назвал – будешь, говорит, у меня самая желанная…
Мать грустно усмехнулась.
- И то - желаннушка, - сказала она. – Только как тебя окрестили-то, дитятко? Такого имени и в святцах* нет.
Желань не помнила – ведь никто не помнит, как его крестили.
- Я из дворовых, - сказала она робко, - нас там много было, господа и поименно не знали…
Старшая тяжело вздохнула. Потуже скрутила темный платок, охватывавший голову и шею; из-под платка на грудь свешивалась толстая седеющая коса.
- А я Евдокия Хрисанфовна, ключница теремов боярина Ошанина, - проговорила она; подняла голову, и в голосе, во взоре на миг выказалась прежняя власть. Запустила руку в кудри своего отрока, мягко усмехнулась. – Его звать Микиткой – один у меня остался от мужа-покойника… Все люди говорили – сын у меня как красная девица…
Желань взглянула в глаза матери, но не выдержала и отвернулась.
Евдокия Хрисанфовна положила ей на плечо горячую руку.
- Пошли мы с ним в Москве на торжище – сапожки купить; а мой Микитка, красна девица, все глазами блудил, к грецким рядам его тянуло… Вот и затянуло обоих – вместо сапожек нас самих сторговали.
Ключница потрогала растрепанную косу. Желань чуть не заплакала вместе с Микиткой – так жалко ей стало сына с матерью, из высоких господских палат угодивших в трюм с рабами.
- Ну а ты как сюда попала? – спросила Евдокия Хрисанфовна.
Желань на затекших от долгого сидения ногах отползла к переборке, отгораживавшей рабов, и посмотрела в щель между разбухшими от сырости досками. До нее снова донеслись согласные вскрики гребцов, которые они перестали слышать, погрузившись в несчастье друг друга.
- Меня тоже в городе схватили, в самой Москве, - сказала девица. – Меня с подружками боярыня Анна Ильинична погулять отпустила, деньгами пожаловала…
Евдокия Хрисанфовна кивнула, прищурив глаза.
- Видно, что ты сама не из простых, - сказала она. – Гладкая, нарядная… Что же, догулялись?
Желань кивнула, закрыв лицо руками от стыда и ужаса.
- Гречин хуже татарина, - сказала Евдокия Хрисанфовна. – Должно – они между собой стакнулись, кто нас с тобой порознь выкрадывал: чтобы воровать людей в базарный день, когда они свое гнилье нам втридорога продавать приезжают.
Желань не выдержала и всхлипнула. Евдокия Хрисанфовна привлекла обоих, сына и чужую девушку, к своей груди. – Лихо нам, детушки… За грехи погибаем, - страстно зашептала она. – Хоть помолитесь, пока время есть…
Желань дрожала на груди, прикрытой широким дорогим платьем, слушала гулкие удары сердца, как церковного колокола.
- Нехристианское, скверное имя у тебя, Желанушка, - и судьба твоя будет нехристианская… - шептала ключница.
Желань прижалась к своей заступнице, закрыв глаза, - и вскоре все трое заснули; как засыпали вокруг них и другие рабы, чтобы набраться сил или забыться перед тем, что им предстояло.
Желань проснулась от озноба, боли во всем теле – она належала себе синяки на голых досках – и голода. Рядом Евдокия Хрисанфовна постанывала, разминаясь: у нее от сырости разломило суставы. Микитка глухо пробормотал, что хочет есть.
Они еще были хорошо одеты, здоровы и благополучны, по сравнению с многими своими товарищами: у некоторых от цепей и грязи, в которой содержались пленники, на руках и ногах появились кровоточащие язвы. Иные из закованных мужчин, кто был бос, поглядывали на хорошие сапоги Евдокии Хрисанфовны и ее подопечных; ключница вместе с младшими отодвинулась поглубже в угол, хотя их обувь не налезла бы мужчинам даже без цепей.
Желань с болезненным выражением взялась за живот. Евдокия Хрисанфовна погладила ее по темноволосой голове.
- Уж тебе-то голодать не дадут, дитятко.
Она проницательно посмотрела на красивое лицо девушки. Сейчас, во время переправы, рабы не вставали по целым дням, но видно было, что на воле Желань двигалась легко, ловко. Ключница тяжко вздохнула и перекрестила ее.
- Господи, так бы и потопила этот вражий корабль…
Тут заскрипел люк в потолке, и все рабы разом подняли головы. Те, у кого еще оставались силы, зашевелились и начали вставать; потом возникла толкучка. Но человек, спустившийся в трюм по легкой деревянной лестнице, которую скинули и придерживали для него сверху, быстро унял беспорядок, вытянув самых беспокойных кнутом; рабы с криками отшатывались, хватаясь за окровавленные лица. Молодой чернокудрый ромей с золотым обручем, перехватывавшим лоб, удовлетворенно усмехнулся. В свете масляной лампы, которую нес за ним такой же раб, как эти пленники, - только откормленный и прирученный, - важный господин прошелся по трюму как по клетке со зверями.
Прислужник по указке ромея поочередно светил рабам в лицо. Мужчин пришедший быстро и брезгливо осматривал издали, но к женщинам несколько раз приблизился; Желань чем-то особенно привлекла его внимание, так что грек, к великому испугу девушки и Евдокии Хрисанфовны, пальцем подцепил ее подбородок и посмотрел в карие глаза. Желань ахнула; а грек засмеялся и вдруг сунул свои белые пальцы ей в рот, оттянув губу, как смотрели зубы лошадям.
Желань застыла от ужаса; а потом с криком отпрянула, спрятавшись за спину Евдокии Хрисанфовны. Та выступила вперед, сверкая глазами.
- Антихрист!
Красивое лицо ромея исказилось; хлыст рассек женщине щеку, глаза уберег только низко спущенный платок. Желань, в страхе за Евдокию Хрисанфовну забывшая себя, рванулась из-за спины заступницы.
- Не тронь ее!
Грек, почти не глядя, протянул кнутом и девушку. Потом, отвернувшись от женщин, отдал приказ на своем языке прислужнику.
И тут Желань увидела, что раздают хлеб; вода у них была, в большом ведре в углу, которое наполняли довольно часто, но из-за еды тотчас возникла свалка. Желань, не раздумывая, бросилась вперед и схватила с полу один хлеб, успев за миг до того, как на него набросились другие голодные рты. Конечно, даже с закованными в железо мужчинами ей было не тягаться.
Девушка отбежала в угол, где ее дожидались товарищи. Евдокия Хрисанфовна, которая утирала концом платка окровавленную щеку, мотнула головой, отодвинув хлеб, когда Желань радостно протянула его ей.
- Вы ешьте, дети…
Желань разломила лепешку напополам.
- Это тебе, матушка, а мы уж как-нибудь…
Евдокия Хрисанфовна, улыбнувшись, взяла предложенную половину и спрятала в рукав своего летника*.
- Приберегу на край, - сказала она.
А остальное троица поделила поровну.
Пленники не знали, как долго они плыли, - здесь, внизу, день был почти равен ночи; но Желань видела, что несколько рабов, послабей, умерло или умирают. Многие были тяжело больны. Желань не знала – сколько среди них больных; она опасалась говорить с чужими, как и ее заступница. Впрочем, здесь почти все рабы держались наособицу, хотя многие сородичи еще в начале плавания сели вместе. Однако говорить друг с другом, чего-то добиваться мало кто хотел – все знали, что это ничему не помогло бы.
Ромеи умели разделять и властвовать всеми племенами.
Когда они причалили и рабов стали выводить, Евдокии Хрисанфовне пришлось опереться на Желань и сына – так разболелись ее суставы; русы держались друг за друга, пока надсмотрщики не глядели на них, перегоняя всех скопом. После многих дней в темноте трюма Желань чуть не ослепило солнце, сияющее над самым прекрасным на свете городом - чудо-городом, повидать который мечталось всем, кто о нем слышал от путешественников.
Но рабам было не до красот Константинополя.
Их согнали с дромона на пристань, где невольников сразу же оцепила стража. Они стояли, изнемогая от усталости, жажды, жары и неизвестности, пока их хозяева о чем-то громко спорили между собой на своем ненавистном языке.
А потом их стали разделять. Желань увидела того самого молодого гречина с черными кудрями, который бил ее и Евдокию Хрисанфовну; он прошелся между рабами, как и тогда, в трюме, пощелкивая кнутом. А потом Желань опомниться не успела, как ее отогнали от ключницы с сыном; девица закричала, Евдокия Хрисанфовна тоже, но они тщетно рвались друг к другу. А потом ключнице стало не до чужой девушки: Желань в ужасе увидела, как у матери пытаются отнять Микитку, "красну девицу". Но женщина вцепилась в руку сына так крепко, что отнять его могли бы, только покалечив…
Желань успела увидеть, как мать и сына гонят куда-то вместе. Потом толпа невольников всех кровей поглотила их. А Желань вместе с другой группой рабов погнали в другую сторону – через город победителей, навстречу какой-то страшной судьбе.
* Быстроходное парусно-гребное судно византийского военно-морского флота, неоднократно модифицировавшееся и совершенствовавшееся за время своего существования.
* Великая Русь (Великороссия) – политико-географический термин, обозначающий прежде всего историческую область Руси: Северо-Восточную Русь.
* Список святых и праздников в к алендарном порядке, месяцеслов (иногда с некоторыми церковными текстами).
* Широкая и свободная верхняя женская одежда Московской Руси.
Крики гребцов-каторжников – возгласы мучительной натуги, вырывавшиеся разом из десятков грудей, - долетали даже в трюм, вместе с морской водой, хлеставшей в борта. Рабы, запертые под палубой, – и те, кто сидел свободно, тонкокостные юноши, женщины и дети, и те, мужчины посильней, на ком были цепи, - от этих криков вздрагивали и забывали о собственной участи. Попасть гребцом на греческий дромон* – судьбу страшнее трудно было вообразить.
Ромеи, хрустевшие нарядными сапогами по кораблю над головами невольников, одетые в золото господа с намасленными кудрями, были ласковыми в глаза, за глаза же - хитрыми и лживыми сверх всякой меры. И суда их, ходившие из Царьграда за богатствами чужих земель, редко возвращались пустыми.
Среди же живого товара особенно ценились женщины и юноши русов – выносливые, плодовитые матери, сильные работники, красивые наложницы… и наложники. Сейчас ценные пленники из Московии, которую ромеи называли Великою Русью*, сидели, сбившись вместе: несколько женщин всхлипывали, остальные угрюмо молчали. Одна из молчавших рабынь, постарше, еще красивая и сановитая женщина, в богатой одежде, держала руку безбородого отрока, очень на нее похожего. Лицо у нее застыло от неизбывной муки, а юноша украдкой глотал слезы.
Девушка с темными глазами и волосами, постарше этого рабичича и непохожая на него и страдавшую за него женщину, протянула руку и погладила старшую по плечу.
- Может, обойдется еще, матушка…
Та неожиданно спокойно взглянула на девицу.
- Может, и обойдется. Если Господь сподобит, - проговорила женщина. Она сжала губы и перекрестилась. – А нет – я его никуда не отдам, пусть казнят обоих вместе, как вместе брали!
Девушка вздрогнула, вместе с отроком. Им обоим еще очень хотелось жить. Но рабичич остался сидеть, безвольно опустив плечи, а девушка подняла голову и перекрестилась вслед за старшей.
Сухой рот женщины тронула улыбка.
- Тебя как звать-то? Крещеным именем? – спросила она.
- Желанью, - ответила юная рабыня. Она потупилась, потом опять взглянула на старшую: щеки тронул румянец. – Меня так отец назвал – будешь, говорит, у меня самая желанная…
Мать грустно усмехнулась.
- И то - желаннушка, - сказала она. – Только как тебя окрестили-то, дитятко? Такого имени и в святцах* нет.
Желань не помнила – ведь никто не помнит, как его крестили.
- Я из дворовых, - сказала она робко, - нас там много было, господа и поименно не знали…
Старшая тяжело вздохнула. Потуже скрутила темный платок, охватывавший голову и шею; из-под платка на грудь свешивалась толстая седеющая коса.
- А я Евдокия Хрисанфовна, ключница теремов боярина Ошанина, - проговорила она; подняла голову, и в голосе, во взоре на миг выказалась прежняя власть. Запустила руку в кудри своего отрока, мягко усмехнулась. – Его звать Микиткой – один у меня остался от мужа-покойника… Все люди говорили – сын у меня как красная девица…
Желань взглянула в глаза матери, но не выдержала и отвернулась.
Евдокия Хрисанфовна положила ей на плечо горячую руку.
- Пошли мы с ним в Москве на торжище – сапожки купить; а мой Микитка, красна девица, все глазами блудил, к грецким рядам его тянуло… Вот и затянуло обоих – вместо сапожек нас самих сторговали.
Ключница потрогала растрепанную косу. Желань чуть не заплакала вместе с Микиткой – так жалко ей стало сына с матерью, из высоких господских палат угодивших в трюм с рабами.
- Ну а ты как сюда попала? – спросила Евдокия Хрисанфовна.
Желань на затекших от долгого сидения ногах отползла к переборке, отгораживавшей рабов, и посмотрела в щель между разбухшими от сырости досками. До нее снова донеслись согласные вскрики гребцов, которые они перестали слышать, погрузившись в несчастье друг друга.
- Меня тоже в городе схватили, в самой Москве, - сказала девица. – Меня с подружками боярыня Анна Ильинична погулять отпустила, деньгами пожаловала…
Евдокия Хрисанфовна кивнула, прищурив глаза.
- Видно, что ты сама не из простых, - сказала она. – Гладкая, нарядная… Что же, догулялись?
Желань кивнула, закрыв лицо руками от стыда и ужаса.
- Гречин хуже татарина, - сказала Евдокия Хрисанфовна. – Должно – они между собой стакнулись, кто нас с тобой порознь выкрадывал: чтобы воровать людей в базарный день, когда они свое гнилье нам втридорога продавать приезжают.
Желань не выдержала и всхлипнула. Евдокия Хрисанфовна привлекла обоих, сына и чужую девушку, к своей груди. – Лихо нам, детушки… За грехи погибаем, - страстно зашептала она. – Хоть помолитесь, пока время есть…
Желань дрожала на груди, прикрытой широким дорогим платьем, слушала гулкие удары сердца, как церковного колокола.
- Нехристианское, скверное имя у тебя, Желанушка, - и судьба твоя будет нехристианская… - шептала ключница.
Желань прижалась к своей заступнице, закрыв глаза, - и вскоре все трое заснули; как засыпали вокруг них и другие рабы, чтобы набраться сил или забыться перед тем, что им предстояло.
Желань проснулась от озноба, боли во всем теле – она належала себе синяки на голых досках – и голода. Рядом Евдокия Хрисанфовна постанывала, разминаясь: у нее от сырости разломило суставы. Микитка глухо пробормотал, что хочет есть.
Они еще были хорошо одеты, здоровы и благополучны, по сравнению с многими своими товарищами: у некоторых от цепей и грязи, в которой содержались пленники, на руках и ногах появились кровоточащие язвы. Иные из закованных мужчин, кто был бос, поглядывали на хорошие сапоги Евдокии Хрисанфовны и ее подопечных; ключница вместе с младшими отодвинулась поглубже в угол, хотя их обувь не налезла бы мужчинам даже без цепей.
Желань с болезненным выражением взялась за живот. Евдокия Хрисанфовна погладила ее по темноволосой голове.
- Уж тебе-то голодать не дадут, дитятко.
Она проницательно посмотрела на красивое лицо девушки. Сейчас, во время переправы, рабы не вставали по целым дням, но видно было, что на воле Желань двигалась легко, ловко. Ключница тяжко вздохнула и перекрестила ее.
- Господи, так бы и потопила этот вражий корабль…
Тут заскрипел люк в потолке, и все рабы разом подняли головы. Те, у кого еще оставались силы, зашевелились и начали вставать; потом возникла толкучка. Но человек, спустившийся в трюм по легкой деревянной лестнице, которую скинули и придерживали для него сверху, быстро унял беспорядок, вытянув самых беспокойных кнутом; рабы с криками отшатывались, хватаясь за окровавленные лица. Молодой чернокудрый ромей с золотым обручем, перехватывавшим лоб, удовлетворенно усмехнулся. В свете масляной лампы, которую нес за ним такой же раб, как эти пленники, - только откормленный и прирученный, - важный господин прошелся по трюму как по клетке со зверями.
Прислужник по указке ромея поочередно светил рабам в лицо. Мужчин пришедший быстро и брезгливо осматривал издали, но к женщинам несколько раз приблизился; Желань чем-то особенно привлекла его внимание, так что грек, к великому испугу девушки и Евдокии Хрисанфовны, пальцем подцепил ее подбородок и посмотрел в карие глаза. Желань ахнула; а грек засмеялся и вдруг сунул свои белые пальцы ей в рот, оттянув губу, как смотрели зубы лошадям.
Желань застыла от ужаса; а потом с криком отпрянула, спрятавшись за спину Евдокии Хрисанфовны. Та выступила вперед, сверкая глазами.
- Антихрист!
Красивое лицо ромея исказилось; хлыст рассек женщине щеку, глаза уберег только низко спущенный платок. Желань, в страхе за Евдокию Хрисанфовну забывшая себя, рванулась из-за спины заступницы.
- Не тронь ее!
Грек, почти не глядя, протянул кнутом и девушку. Потом, отвернувшись от женщин, отдал приказ на своем языке прислужнику.
И тут Желань увидела, что раздают хлеб; вода у них была, в большом ведре в углу, которое наполняли довольно часто, но из-за еды тотчас возникла свалка. Желань, не раздумывая, бросилась вперед и схватила с полу один хлеб, успев за миг до того, как на него набросились другие голодные рты. Конечно, даже с закованными в железо мужчинами ей было не тягаться.
Девушка отбежала в угол, где ее дожидались товарищи. Евдокия Хрисанфовна, которая утирала концом платка окровавленную щеку, мотнула головой, отодвинув хлеб, когда Желань радостно протянула его ей.
- Вы ешьте, дети…
Желань разломила лепешку напополам.
- Это тебе, матушка, а мы уж как-нибудь…
Евдокия Хрисанфовна, улыбнувшись, взяла предложенную половину и спрятала в рукав своего летника*.
- Приберегу на край, - сказала она.
А остальное троица поделила поровну.
Пленники не знали, как долго они плыли, - здесь, внизу, день был почти равен ночи; но Желань видела, что несколько рабов, послабей, умерло или умирают. Многие были тяжело больны. Желань не знала – сколько среди них больных; она опасалась говорить с чужими, как и ее заступница. Впрочем, здесь почти все рабы держались наособицу, хотя многие сородичи еще в начале плавания сели вместе. Однако говорить друг с другом, чего-то добиваться мало кто хотел – все знали, что это ничему не помогло бы.
Ромеи умели разделять и властвовать всеми племенами.
Когда они причалили и рабов стали выводить, Евдокии Хрисанфовне пришлось опереться на Желань и сына – так разболелись ее суставы; русы держались друг за друга, пока надсмотрщики не глядели на них, перегоняя всех скопом. После многих дней в темноте трюма Желань чуть не ослепило солнце, сияющее над самым прекрасным на свете городом - чудо-городом, повидать который мечталось всем, кто о нем слышал от путешественников.
Но рабам было не до красот Константинополя.
Их согнали с дромона на пристань, где невольников сразу же оцепила стража. Они стояли, изнемогая от усталости, жажды, жары и неизвестности, пока их хозяева о чем-то громко спорили между собой на своем ненавистном языке.
А потом их стали разделять. Желань увидела того самого молодого гречина с черными кудрями, который бил ее и Евдокию Хрисанфовну; он прошелся между рабами, как и тогда, в трюме, пощелкивая кнутом. А потом Желань опомниться не успела, как ее отогнали от ключницы с сыном; девица закричала, Евдокия Хрисанфовна тоже, но они тщетно рвались друг к другу. А потом ключнице стало не до чужой девушки: Желань в ужасе увидела, как у матери пытаются отнять Микитку, "красну девицу". Но женщина вцепилась в руку сына так крепко, что отнять его могли бы, только покалечив…
Желань успела увидеть, как мать и сына гонят куда-то вместе. Потом толпа невольников всех кровей поглотила их. А Желань вместе с другой группой рабов погнали в другую сторону – через город победителей, навстречу какой-то страшной судьбе.
* Быстроходное парусно-гребное судно византийского военно-морского флота, неоднократно модифицировавшееся и совершенствовавшееся за время своего существования.
* Великая Русь (Великороссия) – политико-географический термин, обозначающий прежде всего историческую область Руси: Северо-Восточную Русь.
* Список святых и праздников в к алендарном порядке, месяцеслов (иногда с некоторыми церковными текстами).
* Широкая и свободная верхняя женская одежда Московской Руси.
- Шалдорн Кардихат
- Чекист-крестоносец
- Сообщения: 9425
- Зарегистрирован: 23 сен 2007, 10:24
Re: Ставрос
о, Византия?
какая прелесть. чистая история или с примесью фентези?
какая прелесть. чистая история или с примесью фентези?
Вера, сталь и порох делают Империю великой, как она есть.
Re: Ставрос
Шалдорн, а как же Дракула? ))
Насчет того - чистая история или нет, я сама еще не знаю. Сюжет сам выведет.
Насчет того - чистая история или нет, я сама еще не знаю. Сюжет сам выведет.
Re: Ставрос
Глава 2
По дороге Желань успела только немного осмотреться – в глазах темнело, и все сливалось в одно: чужие смуглые лица, незнакомые перистые деревья, желтые и белые, точно сахарные, дома. Их гнали куда-то под беспощадным южным солнцем по горячей пыльной дороге: перед девушкой-московиткой мелькали черные, окровавленные ноги в оковах, прорванных штанах. Вдруг Желань почувствовала радость оттого, что невольники вокруг так слабы: ей не придется стеречься хотя бы этих мужчин, которые в плену одичали как звери.
По сторонам их щелкали кнуты, кричали надсмотрщики; попадало все больше рослым мужчинам. Желань втягивала голову в плечи, но несколько раз досталось и ей. Девушка шаталась от изнеможения, но хлыст подгонял рабов, подгонял жестоко и умело – всех, кто еще мог бежать, и многих, кто думал, что уже не может...
Их пригнали на площадь, на которой уже теснилась разноязыкая толпа и был сколочен огромный деревянный помост. Покупатели и просто зрители дали дорогу Желани и ее товарищам: возглавлял партию рабов тот самый молодой ромей, которому понравилась Желань. "Кто же он здесь, при их царе?" - невольно спросила девица себя. Грек вскидывал сверкающую драгоценностями руку, расчищая дорогу своим пленникам, и когда поводил своею дланью, все вокруг расступалось перед его властью.
Сбоку от нее кто-то сильно подтолкнул двоих черных и смуглых невольников, не то татар, не то турок, и Желань чуть не упала, когда рабы шатнулись в ее сторону, обдав запахом много недель не мытых тел. Она увидела, что пора подниматься на помост, и вместе с босыми товарищами по несчастью простучала своими подкованными сафьяновыми сапожками по деревянным ступеням.
Она встала высоко над толпой и попыталась выпрямить спину, поднять голову. Сердце неистово билось в груди; множество глаз, рассматривающих живой товар, указующих рук, чужие оскорбительные речи как будто раздевали ее: на позор перед всеми ромеями. Но скоро ее и вправду разденут, всю честь отнимут.
Желань понимала, что, стоя прямо, еще больше выставляется, но иначе держаться не могла. Она даже пригладила волосы на две стороны, для пригожества. Кто захочет купить ее - и что это будет значить?..
Она не понимала, кто торгуется с ее хозяевами и как; а может, они еще прежде были кому-то предназначены, а здешние господа перехватывают их, перебивают торговлю?
Желань не понимала, что делается с нею, пока ее не схватили за плечо и не оттянули в сторону. Продали!..
Славянку, подталкивая в спину кулаками, свели с помоста и отогнали к группе понурых рабов, чья участь была уже решена. Девушка из Руси быстро оглядела своих соседей: с десяток молодых и красивых, как она, женщин, несколько русских лиц… остальные -чужестранки. Евдокии Хрисанфовны среди них не было. Конечно: она уже не в таких летах, чтобы послужить гречинам для утех…
И слава богу.
Но среди товарищей Желани оказались также и дети, и юноши, нежного сложения, похожие на Микитку. Однако Микитки не было. Желань сложила руки и помолилась, чтобы мать и сын остались вместе, куда бы их ни забросило.
Она чувствовала, как ей напекло голову, - и даже прикрыться было нечем, никакой головной повязки. Московитки рядом с ней тоже все были простоволосы – если не расстались с повойниками* еще в пути, значит, девицы, как и она. Желань, закусив губу, еще раз отчаянно оглядела рабов – и укрепилась в своих подозрениях: они все, кого отогнали сюда вместе с нею, нужны гречинам для бесовских прихотей, тешить тело!
Желань подняла горящее от жары лицо и открыто перекрестилась. Она знала, что на Руси исповедуют греческую веру, но чувствовала себя так, точно попала к язычникам. И как помешать таким похотям?
- Как пить хочется, господи…
В горле так пересохло, ноги так дрожали, что, казалось, - за глоток воды и мягкую постель она отдаст и честь свою, и все, что у нее есть. А уж за то, чтобы в баню сходить…
Окрик надсмотрщика ударил ее по ушам; Желань вскинула голову и увидела, что им приказывают идти, сгоняют с этого проклятого места. Она была счастлива идти – только бы дали отдохнуть.
Теперь Желань смотрела по сторонам еще меньше – но вдруг узрела то, что сразу преобразило для нее Константинополь. Удивившись, юная рабыня-московитка впервые увидела белые руины под белым солнцем Царьграда: и по дороге, среди густой зелени рощ, ей снова и снова бросались в глаза величественные груды развалин дворцов из кирпича, белого мрамора, цветного камня. Дворцов, что, должно быть, некогда строились во много этажей. Казалось, что Константинополь брали уже несколько раз, снова и снова сгоняя с места его императоров…
"Какой же он старый… трухлявый изнутри!" - почти с испугом подумала девушка из Руси о великом городе.
Потом она вдруг почувствовала и себя такой же трухлявой, старой внутри: болели избитые в пути ноги, голова налилась жаром. Впереди Желань увидела дворец, который еще не развалился, - и улыбнулась. Она поняла, что отдохнет здесь.
Женщин, детей и юношей прогнали через высокую арку, и над ними воздвиглись своды, укрывшие их от полудня. Теперь Желань видела солнце только через полукруглые окна, но и этого было довольно, чтобы болели глаза.
Она закрыла глаза, облизнула пересохшие губы и услышала тонкий плач. Плакало какое-то дитя, которое еще не понимало, что отдано на забаву антихристовым слугам…
Потом Желань услышала греческую речь – приветливую греческую речь, женский голос: московитка посмотрела перед собой в изумлении и увидела служительницу со свитыми на голове косами, в длинной белой одежде, затканной по подолу золотом, с обнаженными руками. Гречанка дотронулась до ее плеча и повторила свои слова. Показала вперед.
Ее куда-то приглашали! Ее жалели – в первый раз за все время!..
А ведь она оказалась в большой чести – только тут подумалось Желани. Куда ее зовут, уж не в баню ли?
Желань показала на свое горло. Служительница поднесла руку к горлу… потом кивнула и просияла улыбкой. Поторопила пленницу жестом.
Желань поспешила вперед вместе с другими женщинами. Они шли по коридорам, рождая гулкое эхо, довольно долго; но наконец пришли. Испытание, длившееся столько бесконечных дней, закончилось.
Московитка сидела на теплом камне, закрыв глаза, и позволяла чужим женщинам раздевать себя. Она услышала, как гречанки ахнули от жалости, сняв с нее платье и сорочку. У них самих были такие белые, холеные тела!
Потом ее поливали разными водами, оттирали с душистым мылом; пока купали, поднесли чашу вина, и Желань с жадностью выпила все, не задумываясь, что может захмелеть. Да она и захмелела: на голодный желудок…
Ее кормили – тоже прямо в бане, изюмом, сладостями, белым хлебом. Такое она едала и дома, в тереме своей госпожи, - но сейчас Желани греческие яства показались райской пищей.
Она была уже сыта и пьяна, почти ничего не понимала, когда ее под руки отвели в парилку и там просто оставили сидеть, задыхаясь от жары. Потом вымыли в новой воде. А она не имела сил даже поблагодарить своих помощниц – и не знала, как по-здешнему сказать…
Потом ее отвели в какой-то покой без окон, сплошь завешенный мягкими и дорогими тканями, с мягкой постелью. Желань едва заметила, что ее переодели в греческое платье, - такое же стыдное, без рукавов, как на служанках. Пленница без сил села на свое ложе, потом легла; и тотчас же уснула.
Проснувшись, Желань первым делом схватилась за деревянный крест на груди. Его не сняли в бане; и пока она спала, тоже.
Потом раздвинулся полог в глубине комнаты – Желань не успела даже заметить, где тут дверь, - и к ней с улыбкой подошла гречанка из тех, что помогали ей в банях; поклонившись, она предложила свои услуги. Желань смотрела на нее, ощущая мучительное стеснение и стыд, - они были как немой с глухим…
Славянка нахмурилась и показала на свое ухо, а потом на рот своей помощницы. Та удивленно засмеялась – а потом всплеснула руками: догадалась. Кивнула и села у ног Желани, точно та была какая-нибудь госпожа, - но без лести, без угодливости. Желань подумала, что ей нравится эта женщина.
Гречанка назвалась – ее звали Метаксия, что значило "шелковая". Она объяснила свое имя, ткнув пальцем в шелковую занавесь. Желань изумленно подумала, сколько же вокруг богатств, шелков, парчи, каменьев, золота, – и какое все пустое, запустелое, точно дворец давно покинула жизнь.
Объяснить свое имя она не могла, и прислужница выучилась только неловко повторять его.
Однако Метаксия оказалась терпеливой и доброй наставницей: ей словно бы в самом деле было любопытно знать, как живут русы и как пленница-московитка попала в Город*. Словно это не по вине ее царей делались такие злодеяния – или же гречанка думала, что так и следует по-христиански: что императоры ромеев в своем полном праве над всеми народами…
Занимались они недолго: пора была мыться и завтракать, о чем гречанка весьма строго напомнила ей. На Желань в этот раз надели платье с рукавами – и странную обувь: много кожаных ремешков, крепившихся к деревянной подошве. Волосы ей Метаксия уложила на греческий манер – свернув косу вокруг головы и выпустив часть волос на спину, а после еще припудрила золотой пудрой.
Потом Метаксия опять учила ее по-гречески; потом Желань вздремнула. Она совсем не скучала и совсем не ощущала стыда – слишком устала…
Так она провела три дня – когда Желань не отдыхала, служанки усердно занимались ее красотой, к которой сама пленница была почти безразлична. Однажды ей поднесли медное зеркало, и Желань долго в изумлении всматривалась в девицу, которую увидела там. Она пыталась узнать ее – и так и не узнала.
А на четвертый день, вечером, к ней пришел мужчина.
Желань вскочила и забилась в угол, как только увидела своего господина, - это был среднего роста белокурый грек, стройный, с приятной улыбкой человека, любующегося собой, надушенный и с завитыми волосами. Девицу затрясло от страха, когда он приблизился к ней, - хотя этот ромей казался куда менее грозным, чем надсмотрщик, ударивший ее.
Гость что-то спросил. Того, что она успела выучить по-гречески, оказалось недостаточно, чтобы понять: Желань потрясла головой.
Тогда ромей рассмеялся и просто обнял ее за плечи; он склонился к ее лицу и попытался поцеловать. Желань завизжала и откинулась назад, вырвавшись из объятий господина с силой, от которой тот растерялся. Она опять забилась в угол и прикрылась шелковой занавесью.
Ромей глядел на нее в великом изумлении, как на какую-то невиданную штуку, - Желань думала, что он попытается взять ее силой, но гость только с сожалением пожал плечами и вышел из комнаты.
Желань села в угол, закрыв голову руками, и разрыдалась.
Весь следующий день она провела в мучительном ожидании, в одиночестве – даже Метаксия не приходила к ней; однако вечером гречанка явилась, и Желань обрадовалась, хотя она совсем не знала эту женщину. Но ей очень хотелось найти хоть в ком-нибудь товарища.
Метаксия принесла ей еду и вино. Желань все съела и выпила – а потом ей вдруг захотелось спать; она почуяла неладное, только когда непреодолимый сон уложил ее на постель. Метаксия собрала пустую посуду и неслышно вышла. Желань попыталась бороться с зельем – но не могла даже поднять головы.
Но она слышала, даже словно бы видела сквозь закрытые веки – как к ней снова вошел господин; и он сел к ней и снял с нее платье. Он целовал ее в губы, в плечи, в грудь; трогал срамные места, так долго, что она умерла бы от стыда, если бы сознавала себя ясно. Но теперь ей это нравилось, нравилось чем дальше, тем больше – душу усыпили, а в теле разожгли похоть…
А потом этот ромей, которого она даже имени не знала, не то что звания, обесчестил ее, и она металась и стонала в его руках, как неисцелимо раненная. У нее отняли то, чего никогда не возместить; или придали ей то, чего никогда не убавить…
Повелитель пригладил ее волосы, выпрямил неловко согнутые ноги и, улыбнувшись изумленному и жалобному виду славянки, ушел.
* Головной платок замужней женщины в Московской Руси.
* Так называли Константинополь сами греки.
По дороге Желань успела только немного осмотреться – в глазах темнело, и все сливалось в одно: чужие смуглые лица, незнакомые перистые деревья, желтые и белые, точно сахарные, дома. Их гнали куда-то под беспощадным южным солнцем по горячей пыльной дороге: перед девушкой-московиткой мелькали черные, окровавленные ноги в оковах, прорванных штанах. Вдруг Желань почувствовала радость оттого, что невольники вокруг так слабы: ей не придется стеречься хотя бы этих мужчин, которые в плену одичали как звери.
По сторонам их щелкали кнуты, кричали надсмотрщики; попадало все больше рослым мужчинам. Желань втягивала голову в плечи, но несколько раз досталось и ей. Девушка шаталась от изнеможения, но хлыст подгонял рабов, подгонял жестоко и умело – всех, кто еще мог бежать, и многих, кто думал, что уже не может...
Их пригнали на площадь, на которой уже теснилась разноязыкая толпа и был сколочен огромный деревянный помост. Покупатели и просто зрители дали дорогу Желани и ее товарищам: возглавлял партию рабов тот самый молодой ромей, которому понравилась Желань. "Кто же он здесь, при их царе?" - невольно спросила девица себя. Грек вскидывал сверкающую драгоценностями руку, расчищая дорогу своим пленникам, и когда поводил своею дланью, все вокруг расступалось перед его властью.
Сбоку от нее кто-то сильно подтолкнул двоих черных и смуглых невольников, не то татар, не то турок, и Желань чуть не упала, когда рабы шатнулись в ее сторону, обдав запахом много недель не мытых тел. Она увидела, что пора подниматься на помост, и вместе с босыми товарищами по несчастью простучала своими подкованными сафьяновыми сапожками по деревянным ступеням.
Она встала высоко над толпой и попыталась выпрямить спину, поднять голову. Сердце неистово билось в груди; множество глаз, рассматривающих живой товар, указующих рук, чужие оскорбительные речи как будто раздевали ее: на позор перед всеми ромеями. Но скоро ее и вправду разденут, всю честь отнимут.
Желань понимала, что, стоя прямо, еще больше выставляется, но иначе держаться не могла. Она даже пригладила волосы на две стороны, для пригожества. Кто захочет купить ее - и что это будет значить?..
Она не понимала, кто торгуется с ее хозяевами и как; а может, они еще прежде были кому-то предназначены, а здешние господа перехватывают их, перебивают торговлю?
Желань не понимала, что делается с нею, пока ее не схватили за плечо и не оттянули в сторону. Продали!..
Славянку, подталкивая в спину кулаками, свели с помоста и отогнали к группе понурых рабов, чья участь была уже решена. Девушка из Руси быстро оглядела своих соседей: с десяток молодых и красивых, как она, женщин, несколько русских лиц… остальные -чужестранки. Евдокии Хрисанфовны среди них не было. Конечно: она уже не в таких летах, чтобы послужить гречинам для утех…
И слава богу.
Но среди товарищей Желани оказались также и дети, и юноши, нежного сложения, похожие на Микитку. Однако Микитки не было. Желань сложила руки и помолилась, чтобы мать и сын остались вместе, куда бы их ни забросило.
Она чувствовала, как ей напекло голову, - и даже прикрыться было нечем, никакой головной повязки. Московитки рядом с ней тоже все были простоволосы – если не расстались с повойниками* еще в пути, значит, девицы, как и она. Желань, закусив губу, еще раз отчаянно оглядела рабов – и укрепилась в своих подозрениях: они все, кого отогнали сюда вместе с нею, нужны гречинам для бесовских прихотей, тешить тело!
Желань подняла горящее от жары лицо и открыто перекрестилась. Она знала, что на Руси исповедуют греческую веру, но чувствовала себя так, точно попала к язычникам. И как помешать таким похотям?
- Как пить хочется, господи…
В горле так пересохло, ноги так дрожали, что, казалось, - за глоток воды и мягкую постель она отдаст и честь свою, и все, что у нее есть. А уж за то, чтобы в баню сходить…
Окрик надсмотрщика ударил ее по ушам; Желань вскинула голову и увидела, что им приказывают идти, сгоняют с этого проклятого места. Она была счастлива идти – только бы дали отдохнуть.
Теперь Желань смотрела по сторонам еще меньше – но вдруг узрела то, что сразу преобразило для нее Константинополь. Удивившись, юная рабыня-московитка впервые увидела белые руины под белым солнцем Царьграда: и по дороге, среди густой зелени рощ, ей снова и снова бросались в глаза величественные груды развалин дворцов из кирпича, белого мрамора, цветного камня. Дворцов, что, должно быть, некогда строились во много этажей. Казалось, что Константинополь брали уже несколько раз, снова и снова сгоняя с места его императоров…
"Какой же он старый… трухлявый изнутри!" - почти с испугом подумала девушка из Руси о великом городе.
Потом она вдруг почувствовала и себя такой же трухлявой, старой внутри: болели избитые в пути ноги, голова налилась жаром. Впереди Желань увидела дворец, который еще не развалился, - и улыбнулась. Она поняла, что отдохнет здесь.
Женщин, детей и юношей прогнали через высокую арку, и над ними воздвиглись своды, укрывшие их от полудня. Теперь Желань видела солнце только через полукруглые окна, но и этого было довольно, чтобы болели глаза.
Она закрыла глаза, облизнула пересохшие губы и услышала тонкий плач. Плакало какое-то дитя, которое еще не понимало, что отдано на забаву антихристовым слугам…
Потом Желань услышала греческую речь – приветливую греческую речь, женский голос: московитка посмотрела перед собой в изумлении и увидела служительницу со свитыми на голове косами, в длинной белой одежде, затканной по подолу золотом, с обнаженными руками. Гречанка дотронулась до ее плеча и повторила свои слова. Показала вперед.
Ее куда-то приглашали! Ее жалели – в первый раз за все время!..
А ведь она оказалась в большой чести – только тут подумалось Желани. Куда ее зовут, уж не в баню ли?
Желань показала на свое горло. Служительница поднесла руку к горлу… потом кивнула и просияла улыбкой. Поторопила пленницу жестом.
Желань поспешила вперед вместе с другими женщинами. Они шли по коридорам, рождая гулкое эхо, довольно долго; но наконец пришли. Испытание, длившееся столько бесконечных дней, закончилось.
Московитка сидела на теплом камне, закрыв глаза, и позволяла чужим женщинам раздевать себя. Она услышала, как гречанки ахнули от жалости, сняв с нее платье и сорочку. У них самих были такие белые, холеные тела!
Потом ее поливали разными водами, оттирали с душистым мылом; пока купали, поднесли чашу вина, и Желань с жадностью выпила все, не задумываясь, что может захмелеть. Да она и захмелела: на голодный желудок…
Ее кормили – тоже прямо в бане, изюмом, сладостями, белым хлебом. Такое она едала и дома, в тереме своей госпожи, - но сейчас Желани греческие яства показались райской пищей.
Она была уже сыта и пьяна, почти ничего не понимала, когда ее под руки отвели в парилку и там просто оставили сидеть, задыхаясь от жары. Потом вымыли в новой воде. А она не имела сил даже поблагодарить своих помощниц – и не знала, как по-здешнему сказать…
Потом ее отвели в какой-то покой без окон, сплошь завешенный мягкими и дорогими тканями, с мягкой постелью. Желань едва заметила, что ее переодели в греческое платье, - такое же стыдное, без рукавов, как на служанках. Пленница без сил села на свое ложе, потом легла; и тотчас же уснула.
Проснувшись, Желань первым делом схватилась за деревянный крест на груди. Его не сняли в бане; и пока она спала, тоже.
Потом раздвинулся полог в глубине комнаты – Желань не успела даже заметить, где тут дверь, - и к ней с улыбкой подошла гречанка из тех, что помогали ей в банях; поклонившись, она предложила свои услуги. Желань смотрела на нее, ощущая мучительное стеснение и стыд, - они были как немой с глухим…
Славянка нахмурилась и показала на свое ухо, а потом на рот своей помощницы. Та удивленно засмеялась – а потом всплеснула руками: догадалась. Кивнула и села у ног Желани, точно та была какая-нибудь госпожа, - но без лести, без угодливости. Желань подумала, что ей нравится эта женщина.
Гречанка назвалась – ее звали Метаксия, что значило "шелковая". Она объяснила свое имя, ткнув пальцем в шелковую занавесь. Желань изумленно подумала, сколько же вокруг богатств, шелков, парчи, каменьев, золота, – и какое все пустое, запустелое, точно дворец давно покинула жизнь.
Объяснить свое имя она не могла, и прислужница выучилась только неловко повторять его.
Однако Метаксия оказалась терпеливой и доброй наставницей: ей словно бы в самом деле было любопытно знать, как живут русы и как пленница-московитка попала в Город*. Словно это не по вине ее царей делались такие злодеяния – или же гречанка думала, что так и следует по-христиански: что императоры ромеев в своем полном праве над всеми народами…
Занимались они недолго: пора была мыться и завтракать, о чем гречанка весьма строго напомнила ей. На Желань в этот раз надели платье с рукавами – и странную обувь: много кожаных ремешков, крепившихся к деревянной подошве. Волосы ей Метаксия уложила на греческий манер – свернув косу вокруг головы и выпустив часть волос на спину, а после еще припудрила золотой пудрой.
Потом Метаксия опять учила ее по-гречески; потом Желань вздремнула. Она совсем не скучала и совсем не ощущала стыда – слишком устала…
Так она провела три дня – когда Желань не отдыхала, служанки усердно занимались ее красотой, к которой сама пленница была почти безразлична. Однажды ей поднесли медное зеркало, и Желань долго в изумлении всматривалась в девицу, которую увидела там. Она пыталась узнать ее – и так и не узнала.
А на четвертый день, вечером, к ней пришел мужчина.
Желань вскочила и забилась в угол, как только увидела своего господина, - это был среднего роста белокурый грек, стройный, с приятной улыбкой человека, любующегося собой, надушенный и с завитыми волосами. Девицу затрясло от страха, когда он приблизился к ней, - хотя этот ромей казался куда менее грозным, чем надсмотрщик, ударивший ее.
Гость что-то спросил. Того, что она успела выучить по-гречески, оказалось недостаточно, чтобы понять: Желань потрясла головой.
Тогда ромей рассмеялся и просто обнял ее за плечи; он склонился к ее лицу и попытался поцеловать. Желань завизжала и откинулась назад, вырвавшись из объятий господина с силой, от которой тот растерялся. Она опять забилась в угол и прикрылась шелковой занавесью.
Ромей глядел на нее в великом изумлении, как на какую-то невиданную штуку, - Желань думала, что он попытается взять ее силой, но гость только с сожалением пожал плечами и вышел из комнаты.
Желань села в угол, закрыв голову руками, и разрыдалась.
Весь следующий день она провела в мучительном ожидании, в одиночестве – даже Метаксия не приходила к ней; однако вечером гречанка явилась, и Желань обрадовалась, хотя она совсем не знала эту женщину. Но ей очень хотелось найти хоть в ком-нибудь товарища.
Метаксия принесла ей еду и вино. Желань все съела и выпила – а потом ей вдруг захотелось спать; она почуяла неладное, только когда непреодолимый сон уложил ее на постель. Метаксия собрала пустую посуду и неслышно вышла. Желань попыталась бороться с зельем – но не могла даже поднять головы.
Но она слышала, даже словно бы видела сквозь закрытые веки – как к ней снова вошел господин; и он сел к ней и снял с нее платье. Он целовал ее в губы, в плечи, в грудь; трогал срамные места, так долго, что она умерла бы от стыда, если бы сознавала себя ясно. Но теперь ей это нравилось, нравилось чем дальше, тем больше – душу усыпили, а в теле разожгли похоть…
А потом этот ромей, которого она даже имени не знала, не то что звания, обесчестил ее, и она металась и стонала в его руках, как неисцелимо раненная. У нее отняли то, чего никогда не возместить; или придали ей то, чего никогда не убавить…
Повелитель пригладил ее волосы, выпрямил неловко согнутые ноги и, улыбнувшись изумленному и жалобному виду славянки, ушел.
* Головной платок замужней женщины в Московской Руси.
* Так называли Константинополь сами греки.
Re: Ставрос
Глава 3
Желань долго лежала в оцепенении – а потом оцепенение сменилось сном, почти смертью, какою стращали няньки подросших девиц: звериные когти хватали ее, вынимали душу за то, что не уберегла себя. Девушку вдруг, как после слов Евдокии Хрисанфовны, опять испугало собственное имя… оно представилось ей каким-то чудищем язычников, которое грозит отнять у нее Христа. Чудище душило ее, и перед ее лицом страшно горели из-под платка глаза старой ключницы, как глаза покойной матери.
- Пошто убила меня? – прошептала мать.
В ответ на стоны славянки в келье раздались тихие шаги. Неся свет, вошла женщина… но не мать, не сестра.
Чужачка. Враг.
Метаксия опустилась подле нее на колени и, нахмурив тонкие черные брови, вылила себе на ладонь какую-то жидкость из маленького сосуда. Желань очнулась от резкого запаха душистого масла – и очнулась достаточно, чтобы понять, что обнажена.
- Ш-ш, - шепнула гречанка, когда Желань встрепенулась.
Она растерла пленнице виски и лоб своим маслом, так что та вся затрепетала от холодной свежести. Метаксия улыбнулась, когда взор славянки прояснел.
- Встань, я перестелю тебе постель, - приказала она.
Желань послушно встала и пустила гречанку к своему ложу; и тогда только поняла, что отравительница говорит по-русски.
- Ты говоришь по-нашему! - воскликнула рабыня. - Что же ты это таила?
Метаксия оглянулась на нее через плечо, но ничего не ответила. Она молча переменила испятнанные простыни; в свете лампадки Желань видела, что в черных волосах гречанки, над низким лбом, несмотря на ночной час, блестят жемчужные нити, а на правой руке золотое с чернью запястье — словно та и не ложилась.
Метаксия надела на славянку новую рубашку, с вышитым низом и рукавами, и жестом пригласила снова лечь. Та села на постель, не спуская с нее глаз.
- Хочешь пить? - спросила отравительница: снова по-русски, правильно, хотя и заметно коверкая слова. Желань молча кивнула.
Метаксия поднесла ей вина напополам с водой, и пленница-московитка выпила все. Потом тронула гречанку за руку, за длинный узкий рукав; прислужница тотчас села у ее ног, как будто ожидала этого.
Желань долго смотрела в ее насурьмленные серые глаза. Конечно, эту женщину нельзя было даже упрекнуть за подлость — гречины все таковы...
Рабыня сдвинула ноги; у нее что-то сжалось внутри в комок, захотелось разразиться слезами — но она не могла перед чужачкой.
- Я христианка, - наконец прошептала Желань, качая темно-русой головой, - я так не могу...
Метаксия опять улыбнулась. Гречанка была хороша собой - но рот слишком твердый, великоватый.
- И я христианка, - ответила прислужница, показав на свой крест. Помолчала и прибавила, понизив голос:
- И он христианин...
Теплые ладони дружески сжали руки славянки. Желань сидела не отвечая, будто окаменев и онемев сразу. Что можно втолковать женщине, которая так говорит - и так делает?
Метаксия, поднявшись с колен, села с нею рядом и пригладила ее волосы. Теперь она смотрела в глаза рабыне серьезно и сочувственно.
- Я такая же, как ты, - проговорила гречанка. - Тебе нужно смириться. Иначе ты себя убьешь.
Желань поникла головою, не размыкая уст. "Я себя уже убила", - подумала она.
- Человек, который к тебе ходит, которому ты отдана, очень важный господин — и падок на женщин, - без всякого смущения продолжала Метаксия. - Если ты будешь умна, у тебя будет счастливая судьба. Он добрый хозяин и хороший любовник.
Желань вся зарделась; зубы и ноги у нее свело от стыда.
- Кто он такой? Тебя он покинул, Метаксия? - прошептала славянка.
- Патрикий* Фома Нотарас, - ответила Метаксия, так ничего и не сказав о себе. - Твой господин... царев муж, как говорят у вас в Московии. Ты должна радоваться, что попала к нему.
Вдруг Желань ощутила душную ненависть к женщине, которая так хорошо говорила на ее языке - и так искусно на ее же языке убеждала полонянку предать свою отчизну и веру.
- Уходи! Уходи! - воскликнула рабыня. - Ты не лучше его!
Метаксия усмехнулась крупным твердым ртом; потом встала и, не поклонившись, вышла вон.
Желань заплакала — тихо, безнадежно. Ей вдруг подумалось, что слова служительницы могли быть ложью с начала до конца. Здесь нельзя верить никому.
Наутро Метаксия явилась как ни в чем не бывало — подняла славянку с постели и повела мыться.
- Тебе повезло, - вдруг сказала она в бане, обливая ее из кувшина. - Во всем городе почти не осталось воды. Мы же здесь ходим чистыми, слава Богу и императору.
Желань изумилась. Она видела, как вода в купальне сбегает по хитро устроенным мраморным трубам, - и подумала, что, наверное, таких бань в Константинополе мало сохранилось, как и дворцов.*
- Это дворец императора? - спросила славянка.
- Да, василевса, - холодно ответила служительница. - Большой дворец. Но великого василевса сейчас нет в столице.
Желань вспомнила, как ей представилось, в минутном помрачении, что человек, который вошел к ней, и есть царь ромеев... Но такого, конечно, не может быть. И сколько же здесь придворных, слуг, рабов — огромный дворец казался пустым, но в складках стенных занавесей, за порфировыми колоннами, когда они шли, звучали шепотки, багряные ковры глушили множество шагов...
- А патрикий придет сегодня? - испуганно спросила славянка. Метаксия хмыкнула.
- Как пожелает, - ответила она, заканчивая укладывать теперешней госпоже волосы. - Я не знаю.
Они вернулись в келью Желани, где вместе позавтракали, финиками и какими-то другими нежными фруктами, имен которых славянка не знала, запив их пряным вином. А потом Метаксия сразу перешла на греческую речь, как будто ни слова не знала на языке московитов. Желань поняла, что, должно быть, служительнице велено обучить ее греческому языку, и не противилась. Что пользы?
Страшные глаза матери виделись ей только тогда, когда она смыкала веки... А спать ей совсем не давали. Патрикий Фома Нотарас пришел к своей рабыне при свете дня.
Желань больше не пряталась и не боролась с ним — и белокурый патрикий остался доволен. Он, однако, теперь не пытался с ней говорить, а сразу сел на ее ложе и взял наложницу себе на колени. От него пахло разными благовониями; дорогой атлас одежды, уложенной складками, поскрипывал, когда он устраивался со славянкой на постели.
Желань хотела отвернуть лицо, но грек с неожиданной силой поймал ее подбородок и прижался к губам долгим поцелуем. Потом спустил с плеч платье и принялся ласкать и целовать ее тело. Пленница млела от страха и томления.
Потом в воздухе кельи разлился аромат оливкового масла: так пахло в греческих рядах на торжище в Москве. Ромей принес с собой кувшинчик масла, как его коварная помощница, - но употребил это масло таким образом, что Желань помертвела от унижения. Любовник, улыбаясь, не спеша умастил этим маслом ее и себя - а потом обнял наложницу и сочетался с нею. Принимая его власть, славянка обхватила своего господина за шею и приникла к нему; его руки качали ее, как неусыпные волны, омывающие Город. Теперь она не испытывала боли, а только сладострастие. И ее все сильней подмывало чувство, что есть еще лучшая, большая услада; что ей ее не дали...
Она изумленно ахнула. Посмотрев в глаза ромея — серые глаза, с ласковым и знающим прищуром - Желань испугалась себя, а не его. Она думала прежде, что крепка, - а оказалось, что ее даже толкать не надо, чтобы она упала в яму!..
- Господи, какой грех, - прошептала она.
Фома Нотарас погладил ее по щеке и что-то с улыбкой сказал. Он ей польстил. А потом снял с себя золотую цепь и повесил рабыне на шею; от нежданной тяжести она согнулась перед ним, точно всецело покоряясь, - чем патрикий остался еще более доволен, чем ее постелью.
Он ушел — а Желань, оглаживая драгоценный подарок, подумала со страхом: что будет, если она понесет от этого грека, с которым двух слов не может сказать и который может распоряжаться ею, как вещью?
Но это не ей решать. Бог управит — больше некому!
Потом на два дня ее оставили одну — но неизменная Метаксия, державшая нос по ветру, опять сменила холодность на ласковость; и даже вывела пленницу погулять. Вернее сказать — посидеть на солнце, на террасе. Но рабыня была очень рада. Хотя долго пробыть на солнце ей не дали — чтобы белую кожу не испортить...
Потом хозяин провел с наложницей еще одну ночь, ночь ласк, хотя и в этот раз почти ничего не говорил и не остался с нею спать. Но теперь Желань ощутила, что падает в яму безудержно, безвозвратно...
А потом Метаксия сообщила ей, что во дворец возвращается василевс.
* Патрикий — знатный (греч.).
* Константинопольские бани к XV веку были почти полностью разрушены землетрясениями, завоеваниями и перестройками; что очень существенно, в ходе военных действий регулярно разрушались акведуки, снабжавшие город водой.
Желань долго лежала в оцепенении – а потом оцепенение сменилось сном, почти смертью, какою стращали няньки подросших девиц: звериные когти хватали ее, вынимали душу за то, что не уберегла себя. Девушку вдруг, как после слов Евдокии Хрисанфовны, опять испугало собственное имя… оно представилось ей каким-то чудищем язычников, которое грозит отнять у нее Христа. Чудище душило ее, и перед ее лицом страшно горели из-под платка глаза старой ключницы, как глаза покойной матери.
- Пошто убила меня? – прошептала мать.
В ответ на стоны славянки в келье раздались тихие шаги. Неся свет, вошла женщина… но не мать, не сестра.
Чужачка. Враг.
Метаксия опустилась подле нее на колени и, нахмурив тонкие черные брови, вылила себе на ладонь какую-то жидкость из маленького сосуда. Желань очнулась от резкого запаха душистого масла – и очнулась достаточно, чтобы понять, что обнажена.
- Ш-ш, - шепнула гречанка, когда Желань встрепенулась.
Она растерла пленнице виски и лоб своим маслом, так что та вся затрепетала от холодной свежести. Метаксия улыбнулась, когда взор славянки прояснел.
- Встань, я перестелю тебе постель, - приказала она.
Желань послушно встала и пустила гречанку к своему ложу; и тогда только поняла, что отравительница говорит по-русски.
- Ты говоришь по-нашему! - воскликнула рабыня. - Что же ты это таила?
Метаксия оглянулась на нее через плечо, но ничего не ответила. Она молча переменила испятнанные простыни; в свете лампадки Желань видела, что в черных волосах гречанки, над низким лбом, несмотря на ночной час, блестят жемчужные нити, а на правой руке золотое с чернью запястье — словно та и не ложилась.
Метаксия надела на славянку новую рубашку, с вышитым низом и рукавами, и жестом пригласила снова лечь. Та села на постель, не спуская с нее глаз.
- Хочешь пить? - спросила отравительница: снова по-русски, правильно, хотя и заметно коверкая слова. Желань молча кивнула.
Метаксия поднесла ей вина напополам с водой, и пленница-московитка выпила все. Потом тронула гречанку за руку, за длинный узкий рукав; прислужница тотчас села у ее ног, как будто ожидала этого.
Желань долго смотрела в ее насурьмленные серые глаза. Конечно, эту женщину нельзя было даже упрекнуть за подлость — гречины все таковы...
Рабыня сдвинула ноги; у нее что-то сжалось внутри в комок, захотелось разразиться слезами — но она не могла перед чужачкой.
- Я христианка, - наконец прошептала Желань, качая темно-русой головой, - я так не могу...
Метаксия опять улыбнулась. Гречанка была хороша собой - но рот слишком твердый, великоватый.
- И я христианка, - ответила прислужница, показав на свой крест. Помолчала и прибавила, понизив голос:
- И он христианин...
Теплые ладони дружески сжали руки славянки. Желань сидела не отвечая, будто окаменев и онемев сразу. Что можно втолковать женщине, которая так говорит - и так делает?
Метаксия, поднявшись с колен, села с нею рядом и пригладила ее волосы. Теперь она смотрела в глаза рабыне серьезно и сочувственно.
- Я такая же, как ты, - проговорила гречанка. - Тебе нужно смириться. Иначе ты себя убьешь.
Желань поникла головою, не размыкая уст. "Я себя уже убила", - подумала она.
- Человек, который к тебе ходит, которому ты отдана, очень важный господин — и падок на женщин, - без всякого смущения продолжала Метаксия. - Если ты будешь умна, у тебя будет счастливая судьба. Он добрый хозяин и хороший любовник.
Желань вся зарделась; зубы и ноги у нее свело от стыда.
- Кто он такой? Тебя он покинул, Метаксия? - прошептала славянка.
- Патрикий* Фома Нотарас, - ответила Метаксия, так ничего и не сказав о себе. - Твой господин... царев муж, как говорят у вас в Московии. Ты должна радоваться, что попала к нему.
Вдруг Желань ощутила душную ненависть к женщине, которая так хорошо говорила на ее языке - и так искусно на ее же языке убеждала полонянку предать свою отчизну и веру.
- Уходи! Уходи! - воскликнула рабыня. - Ты не лучше его!
Метаксия усмехнулась крупным твердым ртом; потом встала и, не поклонившись, вышла вон.
Желань заплакала — тихо, безнадежно. Ей вдруг подумалось, что слова служительницы могли быть ложью с начала до конца. Здесь нельзя верить никому.
Наутро Метаксия явилась как ни в чем не бывало — подняла славянку с постели и повела мыться.
- Тебе повезло, - вдруг сказала она в бане, обливая ее из кувшина. - Во всем городе почти не осталось воды. Мы же здесь ходим чистыми, слава Богу и императору.
Желань изумилась. Она видела, как вода в купальне сбегает по хитро устроенным мраморным трубам, - и подумала, что, наверное, таких бань в Константинополе мало сохранилось, как и дворцов.*
- Это дворец императора? - спросила славянка.
- Да, василевса, - холодно ответила служительница. - Большой дворец. Но великого василевса сейчас нет в столице.
Желань вспомнила, как ей представилось, в минутном помрачении, что человек, который вошел к ней, и есть царь ромеев... Но такого, конечно, не может быть. И сколько же здесь придворных, слуг, рабов — огромный дворец казался пустым, но в складках стенных занавесей, за порфировыми колоннами, когда они шли, звучали шепотки, багряные ковры глушили множество шагов...
- А патрикий придет сегодня? - испуганно спросила славянка. Метаксия хмыкнула.
- Как пожелает, - ответила она, заканчивая укладывать теперешней госпоже волосы. - Я не знаю.
Они вернулись в келью Желани, где вместе позавтракали, финиками и какими-то другими нежными фруктами, имен которых славянка не знала, запив их пряным вином. А потом Метаксия сразу перешла на греческую речь, как будто ни слова не знала на языке московитов. Желань поняла, что, должно быть, служительнице велено обучить ее греческому языку, и не противилась. Что пользы?
Страшные глаза матери виделись ей только тогда, когда она смыкала веки... А спать ей совсем не давали. Патрикий Фома Нотарас пришел к своей рабыне при свете дня.
Желань больше не пряталась и не боролась с ним — и белокурый патрикий остался доволен. Он, однако, теперь не пытался с ней говорить, а сразу сел на ее ложе и взял наложницу себе на колени. От него пахло разными благовониями; дорогой атлас одежды, уложенной складками, поскрипывал, когда он устраивался со славянкой на постели.
Желань хотела отвернуть лицо, но грек с неожиданной силой поймал ее подбородок и прижался к губам долгим поцелуем. Потом спустил с плеч платье и принялся ласкать и целовать ее тело. Пленница млела от страха и томления.
Потом в воздухе кельи разлился аромат оливкового масла: так пахло в греческих рядах на торжище в Москве. Ромей принес с собой кувшинчик масла, как его коварная помощница, - но употребил это масло таким образом, что Желань помертвела от унижения. Любовник, улыбаясь, не спеша умастил этим маслом ее и себя - а потом обнял наложницу и сочетался с нею. Принимая его власть, славянка обхватила своего господина за шею и приникла к нему; его руки качали ее, как неусыпные волны, омывающие Город. Теперь она не испытывала боли, а только сладострастие. И ее все сильней подмывало чувство, что есть еще лучшая, большая услада; что ей ее не дали...
Она изумленно ахнула. Посмотрев в глаза ромея — серые глаза, с ласковым и знающим прищуром - Желань испугалась себя, а не его. Она думала прежде, что крепка, - а оказалось, что ее даже толкать не надо, чтобы она упала в яму!..
- Господи, какой грех, - прошептала она.
Фома Нотарас погладил ее по щеке и что-то с улыбкой сказал. Он ей польстил. А потом снял с себя золотую цепь и повесил рабыне на шею; от нежданной тяжести она согнулась перед ним, точно всецело покоряясь, - чем патрикий остался еще более доволен, чем ее постелью.
Он ушел — а Желань, оглаживая драгоценный подарок, подумала со страхом: что будет, если она понесет от этого грека, с которым двух слов не может сказать и который может распоряжаться ею, как вещью?
Но это не ей решать. Бог управит — больше некому!
Потом на два дня ее оставили одну — но неизменная Метаксия, державшая нос по ветру, опять сменила холодность на ласковость; и даже вывела пленницу погулять. Вернее сказать — посидеть на солнце, на террасе. Но рабыня была очень рада. Хотя долго пробыть на солнце ей не дали — чтобы белую кожу не испортить...
Потом хозяин провел с наложницей еще одну ночь, ночь ласк, хотя и в этот раз почти ничего не говорил и не остался с нею спать. Но теперь Желань ощутила, что падает в яму безудержно, безвозвратно...
А потом Метаксия сообщила ей, что во дворец возвращается василевс.
* Патрикий — знатный (греч.).
* Константинопольские бани к XV веку были почти полностью разрушены землетрясениями, завоеваниями и перестройками; что очень существенно, в ходе военных действий регулярно разрушались акведуки, снабжавшие город водой.
Re: Ставрос
Глава 4
- Вот это император Иоанн* – приглядись получше, - прошептала Метаксия в волнении, показывая пальцем в сторону волнующейся группы придворных. Они с Желанью притаились за колонной и выглядывали оттуда, как две сестры.
Желань пригляделась и так и не поняла, где император, - эти люди казались ей живой выставкой драгоценностей, как наряжались великие бояре и князья и на Руси и к которым она привыкла; но знатных греков ей было очень страшно. На Руси всегда почитали жен, и даже в самой последней из холопок видели душу; а эти господа смотрят на всех рабов, а тем паче женского пола, как на скотину…
- Не вижу василевса, - прошептала славянка, изнемогая от волнения. Василевс со свитой прошел; его окружали грозные воины, закованные в железо с головы до ног. Такую стражу она еще не видела.
- Бессмертные*, - прошептала Метаксия. – Лучшие воины нашего императора!
Гречанка шагнула вперед и выдернула товарку за руку из-за колонны. – Идем, - прошептала она. И, к ужасу Желани, повела ее не прочь, в женские комнаты, а потащила вперед, следом за василевсом. У Желани подкосились ноги от испуга; но гречанка только повела головой, показав глазами в сторону. За императором валило множество людей – придворных и слуг, мужчин и женщин, которые громко смеялись и переговаривались.
- Все радуются, - прошептала среди общего шума Метаксия. – Наш отец приехал!
Желани послышалась в ее словах ядовитая насмешка. Она чуть было не спросила: за что Метаксия не любит императора; и едва удержала язык. Но тут люди, окружавшие Иоанна, расступились, и рабыня-славянка тоже увидела его.
Это был уже старый человек – в молодые годы, должно быть, красивый, как ангел: с голубыми глазами, с аккуратной светлой бородкой и длинными светлыми волосами с проседью, точно серебро с золотом. Император был одет в позолоченный доспех – и кроткое лицо василевса казалось утомленным, точно доспех тяготил его. Иоанна держали под руки два безбородых человека. Здесь мужчины ходили и с бородами, по православному обычаю, и с гладкими лицами; но эти прислужники чем-то удивили Желань - может быть, своим одутловатым, безразличным видом, несмотря на то, что они сопровождали и поддерживали священную особу. Они были как светильники, которые задули прежде срока.
Метаксия улыбнулась, увидев, на что устремлен взгляд рабыни.
- Евнухи, - прошептала она. – Эти двое никогда не были мужчинами.
Она взяла свою наперсницу под руку, и они улыбнулись друг другу, поняв одна другую без слов. Женщину куда труднее, почти невозможно лишить женского естества.
Потом Желань увидела, как греки расступаются, пропуская к императору других смуглых и черных южан; но одетых иначе, нежели ромеи, - в высоких драгоценных шапках, больших, словно надутые золотые шары, и длинных и тяжелых черных бархатных платьях.
- Итальянцы… Католики, - прошептала Метаксия со странным отвращением; и сама Желань ощутила такое же необъяснимое отвращение. – Идем, - резко сказала гречанка, и они наконец пошли прочь, проталкиваясь через толпу, в которой никому не было дела до положения двух этих женщин. Только выйдя в коридор, Желань ощутила, какой спертый был в зале воздух, - запах людей чуждых друг другу кровей, как звериный, оскорблял нюх...
Сегодня Метаксия вытащила ее из кельи почти силой, сказав, что ей хочется посмотреть на императора; Желань не посмела спорить, а Метаксия, по-видимому, нуждалась в женской поддержке, в какой пленная славянка не могла ей отказать.
Они вернулись в гинекей, и тут дорогу им заступил тот самый темнолицый страж, который сквозь пальцы посмотрел на выход женщин, спешивших приветствовать императора. Он о чем-то спросил Метаксию – и гречанка, сложив руки на груди, ответила гордо и гневно; и даже кивнула покрытой покрывалом головой в сторону, приказывая стражнику отойти. Тот со злостью посмотрел на славянку – и дал обеим дорогу. Желань вдруг подумала, что до сих пор не знает, на каком положении здесь ее прислужница и спутница.
Они вернулись в комнату, и гречанка с радостным и усталым вздохом бросилась на шелковые подушки, раскиданные по полу. – С тобой мне позволено ходить куда угодно, - прошептала она. – Иногда так хорошо быть рабыней, тенью человека, которую никто не замечает!
Желань покраснела от гнева; но Метаксии, конечно, не было дела до ее чувств.
Они сделались странными товарками – одна выручала другую; только одна знала все, а другая ничего…
- Можно ли мне иногда ходить одной? Здесь, между комнатами для женщин? – спросила Желань, совладав со своим гневом, ни в какую минуту не приличествующим рабыне. Гречанка ласково и снисходительно улыбнулась.
- Выйди, если хочешь, - только тебе некуда пойти: никто из благородных жен тебя не примет, а с мужчинами говорить нельзя, - ответила она.
Потом Метаксия встала с подушек и, подойдя к Желани, пожала ей руки, посмотрев в печальные карие глаза. Она тоже погрустнела.
- Не думай, что сможешь сбежать, - это место, откуда никто из нас не может сбежать; и сам император…
Она покачала головой. Императора теснили многие враги, и враги подрывали стены города, который давно уже не был так неприступен, как гласили легенды. Вся империя, поглощаемая турками, сходилась, сужалась к Константинополю…
Пленной московитке все это рассказала Метаксия, болтавшая с нею от безделья – или из непонятного умысла.
- Почему ты так много говоришь со мной? – вдруг, не утерпев, спросила Желань. – Ведь я для тебя только раба?
Она расплела волосы, вернувшись в келью; и теперь опять бездумно заплетала их в косу.
Метаксия прямо посмотрела славянке в глаза.
- Ты мне нравишься, - сказала она. – Ты дикая и чистая.
Она вдруг вздохнула.
- Таковы когда-то были мы… эллины, народ моря…
Вдруг ее гибкая и сильная фигура словно опростилась, освободилась от тяжелых украшений - и от слов Метаксии, как от всего ее города, снова повеяло древностью: седой стариной, какой не помнили даже пращуры Желани. Стариной, рассыпавшейся в прах еще до рождения Руси.
Желань откинула за спину наспех заплетенную косу, покрыла волосы шелковой тканью и, придерживая накидку одной рукой, тронула дверь. Она думала, что Метаксия остановит ее, - но та не сказала ни слова. Славянка тихо вышла.
Она очень робела вначале – но потом, перекрестившись, взбодрилась и двинулась по коридору уже смелее. Ей никого не попадалось. Только мрамор и золото стен, тускло отражающее и преображающее ее саму, - такими преображенными в золоте, должно быть, видели себя цари ромеев.
Желань слышала от Метаксии - и видела уже и собственными глазами, что золото Большого дворца собрано в самых лучших палатах, для приема избранных гостей, а в прочих местах - пустота и тлен: убогая пышность, которая только и осталась нынешним императорам. Иоанн Палеолог был даже бездетен, несмотря на то, что уже трижды овдовел…
Московитка шла и шла, трогая холодное золото, - потом в глазах у нее мелькнула человеческая фигура… Желань вскинула голову. Мужчина? Нет, отрок - и, конечно, скопец: только таких слуг и допускали на женскую половину. Юноша брел куда-то из комнаты в комнату.
- Стой! – воскликнула Желань; хотя никак не могла ему приказывать; и не могла ожидать, что он поймет. Но отрок понял и остановился.
А когда наложница патрикия Нотараса узнала этого безбородого, сердце у нее облилось кровью.
- Господи, - прошептала она, крестясь. – Что же они с тобой сделали?..
Отрок, которого мать когда-то, припадая к нему в отчаянии, называла красной девицей, стоял и неподвижно смотрел на Желань: смотрел с какой-то ненавистью. Все же она решилась приблизиться к нему и тронуть за плечо. Он вздрогнул, но остался на месте.
- Микитка, болезный ты мой…
- Теперь меня зовут Иоанном, - хрипло ответил юноша.
Желань рассмеялась.
- Как императора…
Она закусила губу, не смея продолжать, - а рабичич быстро отошел от нее и уставился в стену, сложив руки на груди.
- А где твоя мать? – спросила Желань.
Она взялась за лоб, кусая губы, ужасаясь услышать ответ, который слетит с губ безбородого. Если Микитка вообще ответит.
Но он ответил – после долгого молчания, не поворачиваясь к Желани:
- Мать продали в служанки одному итальянцу, купцу, и меня с ней… Он понимает по-нашему… и поставил ее над своим хозяйством, чтобы следила, пока его дома нет – пока он ездит по дальним краям. А потом меня продали во дворец, потому что мне не нашлось дела у католика.
Микитка-Иоанн оглянулся на Желань и обжег ее глазами.
- Мать смирилась, потому что хозяин был к ней добр и обещал, что мне будет хорошо…
- Ты не виделся с ней больше, - прошептала Желань: как будто это и так было непонятно. Юноша качнул головой.
- Что я, совсем дурной? – сжимая красивые губы, проговорил он; на щеках пламенели розы. - Даже если бы и позволили…
Он говорил сейчас как мужчина, как ни разу не говорил в их первую встречу, - но мужчиной, мужем, ему уже никогда не быть.
Желань быстро подошла к нему… ей так хотелось обнять его, утешить; но она знала, что нельзя. Микитка повернулся к ней, и она положила ему ладонь на плечо, не посмев больше заговорить.
Он прижался горячим лбом к ее груди – на несколько страшных, бесценных мгновений – а потом, сняв руку пленницы со своего плеча, молча последовал, куда направлялся. Дверь одного из покоев гинекея открылась на его стук - и снова закрылась.
Желань опустилась на пол и, закрыв лицо руками, всплакнула. Нет, она не плакала долго – она быстро овладела собой, как несчастный рабичич, который сейчас держался так стойко. Одному Богу было известно, что Микитка таил в сердце против своих мучителей.
Желань встала на ноги, вздохнула и перекрестила ту дверь, за которой он исчез. Потом перекрестила свой лоб и, поклонившись невидимым заступникам, вернулась к себе.
Метаксия была по-прежнему у нее в спальне – но теперь занималась делом: она шила при свече. Вскинув голову на звук шагов, взглянула своими умными серыми глазами в лицо наложницы. Ни о чем не спросила.
- Хочешь поработать со мной? – предложила прислужница.
Желань с готовностью кивнула; и вскоре забылась за рукодельем вместе с гречанкой, голова к голове. Забылась хотя бы ненадолго.
Господин пришел к ней через день после приезда василевса. Теперь у Желани были крови, нечистые дни; и Фома Нотарас не притронулся к ней. Они уже могли немного говорить – и грек остался у нее для разговора...
Хозяин спросил на своем языке, как ее зовут, - неужели не выведал этого у Метаксии? Или ему попросту не было никакого дела до ее прежней жизни?
- Меня зовут Желанью, - сказала рабыня по-гречески. Ромей улыбнулся и, ласково приблизив к себе ее голову, поцеловал ее в лоб.
- Это языческое имя, тебе оно больше не годится, - сказал он. – Теперь тебя будут называть Феодорой.
Желань заплакала. А ромей сел рядом, обнял ее за плечи и взял за руку, как сердечный друг. Ласково сказал, что скоро поведет ее в цирк, на представление – путь в цирк вел прямо из Большого дворца, чтобы василевсы могли развлекаться, не выходя из дому. В честь возвращения императора устраивают игры…
Пленница смутно понимала, о чем говорит хозяин, - и это смутное понимание отчего-то наполняло ее ужасом; она продолжала плакать, не поднимая глаз. Патрикий еще раз поцеловал ее в лоб, погладил по волосам и ушел.
Желань подняла голову, глядя ему вслед сверкающими влажными глазами, - потом вытерла глаза и перестала плакать.
* Иоанн VIII Палеолог, предшественник Константина XI Драгаша, последнего императора Византии, и предок Софьи Палеолог, греческой царевны, выданной замуж за московского великого князя Ивана III.
* Элитное подразделение византийской армии.
- Вот это император Иоанн* – приглядись получше, - прошептала Метаксия в волнении, показывая пальцем в сторону волнующейся группы придворных. Они с Желанью притаились за колонной и выглядывали оттуда, как две сестры.
Желань пригляделась и так и не поняла, где император, - эти люди казались ей живой выставкой драгоценностей, как наряжались великие бояре и князья и на Руси и к которым она привыкла; но знатных греков ей было очень страшно. На Руси всегда почитали жен, и даже в самой последней из холопок видели душу; а эти господа смотрят на всех рабов, а тем паче женского пола, как на скотину…
- Не вижу василевса, - прошептала славянка, изнемогая от волнения. Василевс со свитой прошел; его окружали грозные воины, закованные в железо с головы до ног. Такую стражу она еще не видела.
- Бессмертные*, - прошептала Метаксия. – Лучшие воины нашего императора!
Гречанка шагнула вперед и выдернула товарку за руку из-за колонны. – Идем, - прошептала она. И, к ужасу Желани, повела ее не прочь, в женские комнаты, а потащила вперед, следом за василевсом. У Желани подкосились ноги от испуга; но гречанка только повела головой, показав глазами в сторону. За императором валило множество людей – придворных и слуг, мужчин и женщин, которые громко смеялись и переговаривались.
- Все радуются, - прошептала среди общего шума Метаксия. – Наш отец приехал!
Желани послышалась в ее словах ядовитая насмешка. Она чуть было не спросила: за что Метаксия не любит императора; и едва удержала язык. Но тут люди, окружавшие Иоанна, расступились, и рабыня-славянка тоже увидела его.
Это был уже старый человек – в молодые годы, должно быть, красивый, как ангел: с голубыми глазами, с аккуратной светлой бородкой и длинными светлыми волосами с проседью, точно серебро с золотом. Император был одет в позолоченный доспех – и кроткое лицо василевса казалось утомленным, точно доспех тяготил его. Иоанна держали под руки два безбородых человека. Здесь мужчины ходили и с бородами, по православному обычаю, и с гладкими лицами; но эти прислужники чем-то удивили Желань - может быть, своим одутловатым, безразличным видом, несмотря на то, что они сопровождали и поддерживали священную особу. Они были как светильники, которые задули прежде срока.
Метаксия улыбнулась, увидев, на что устремлен взгляд рабыни.
- Евнухи, - прошептала она. – Эти двое никогда не были мужчинами.
Она взяла свою наперсницу под руку, и они улыбнулись друг другу, поняв одна другую без слов. Женщину куда труднее, почти невозможно лишить женского естества.
Потом Желань увидела, как греки расступаются, пропуская к императору других смуглых и черных южан; но одетых иначе, нежели ромеи, - в высоких драгоценных шапках, больших, словно надутые золотые шары, и длинных и тяжелых черных бархатных платьях.
- Итальянцы… Католики, - прошептала Метаксия со странным отвращением; и сама Желань ощутила такое же необъяснимое отвращение. – Идем, - резко сказала гречанка, и они наконец пошли прочь, проталкиваясь через толпу, в которой никому не было дела до положения двух этих женщин. Только выйдя в коридор, Желань ощутила, какой спертый был в зале воздух, - запах людей чуждых друг другу кровей, как звериный, оскорблял нюх...
Сегодня Метаксия вытащила ее из кельи почти силой, сказав, что ей хочется посмотреть на императора; Желань не посмела спорить, а Метаксия, по-видимому, нуждалась в женской поддержке, в какой пленная славянка не могла ей отказать.
Они вернулись в гинекей, и тут дорогу им заступил тот самый темнолицый страж, который сквозь пальцы посмотрел на выход женщин, спешивших приветствовать императора. Он о чем-то спросил Метаксию – и гречанка, сложив руки на груди, ответила гордо и гневно; и даже кивнула покрытой покрывалом головой в сторону, приказывая стражнику отойти. Тот со злостью посмотрел на славянку – и дал обеим дорогу. Желань вдруг подумала, что до сих пор не знает, на каком положении здесь ее прислужница и спутница.
Они вернулись в комнату, и гречанка с радостным и усталым вздохом бросилась на шелковые подушки, раскиданные по полу. – С тобой мне позволено ходить куда угодно, - прошептала она. – Иногда так хорошо быть рабыней, тенью человека, которую никто не замечает!
Желань покраснела от гнева; но Метаксии, конечно, не было дела до ее чувств.
Они сделались странными товарками – одна выручала другую; только одна знала все, а другая ничего…
- Можно ли мне иногда ходить одной? Здесь, между комнатами для женщин? – спросила Желань, совладав со своим гневом, ни в какую минуту не приличествующим рабыне. Гречанка ласково и снисходительно улыбнулась.
- Выйди, если хочешь, - только тебе некуда пойти: никто из благородных жен тебя не примет, а с мужчинами говорить нельзя, - ответила она.
Потом Метаксия встала с подушек и, подойдя к Желани, пожала ей руки, посмотрев в печальные карие глаза. Она тоже погрустнела.
- Не думай, что сможешь сбежать, - это место, откуда никто из нас не может сбежать; и сам император…
Она покачала головой. Императора теснили многие враги, и враги подрывали стены города, который давно уже не был так неприступен, как гласили легенды. Вся империя, поглощаемая турками, сходилась, сужалась к Константинополю…
Пленной московитке все это рассказала Метаксия, болтавшая с нею от безделья – или из непонятного умысла.
- Почему ты так много говоришь со мной? – вдруг, не утерпев, спросила Желань. – Ведь я для тебя только раба?
Она расплела волосы, вернувшись в келью; и теперь опять бездумно заплетала их в косу.
Метаксия прямо посмотрела славянке в глаза.
- Ты мне нравишься, - сказала она. – Ты дикая и чистая.
Она вдруг вздохнула.
- Таковы когда-то были мы… эллины, народ моря…
Вдруг ее гибкая и сильная фигура словно опростилась, освободилась от тяжелых украшений - и от слов Метаксии, как от всего ее города, снова повеяло древностью: седой стариной, какой не помнили даже пращуры Желани. Стариной, рассыпавшейся в прах еще до рождения Руси.
Желань откинула за спину наспех заплетенную косу, покрыла волосы шелковой тканью и, придерживая накидку одной рукой, тронула дверь. Она думала, что Метаксия остановит ее, - но та не сказала ни слова. Славянка тихо вышла.
Она очень робела вначале – но потом, перекрестившись, взбодрилась и двинулась по коридору уже смелее. Ей никого не попадалось. Только мрамор и золото стен, тускло отражающее и преображающее ее саму, - такими преображенными в золоте, должно быть, видели себя цари ромеев.
Желань слышала от Метаксии - и видела уже и собственными глазами, что золото Большого дворца собрано в самых лучших палатах, для приема избранных гостей, а в прочих местах - пустота и тлен: убогая пышность, которая только и осталась нынешним императорам. Иоанн Палеолог был даже бездетен, несмотря на то, что уже трижды овдовел…
Московитка шла и шла, трогая холодное золото, - потом в глазах у нее мелькнула человеческая фигура… Желань вскинула голову. Мужчина? Нет, отрок - и, конечно, скопец: только таких слуг и допускали на женскую половину. Юноша брел куда-то из комнаты в комнату.
- Стой! – воскликнула Желань; хотя никак не могла ему приказывать; и не могла ожидать, что он поймет. Но отрок понял и остановился.
А когда наложница патрикия Нотараса узнала этого безбородого, сердце у нее облилось кровью.
- Господи, - прошептала она, крестясь. – Что же они с тобой сделали?..
Отрок, которого мать когда-то, припадая к нему в отчаянии, называла красной девицей, стоял и неподвижно смотрел на Желань: смотрел с какой-то ненавистью. Все же она решилась приблизиться к нему и тронуть за плечо. Он вздрогнул, но остался на месте.
- Микитка, болезный ты мой…
- Теперь меня зовут Иоанном, - хрипло ответил юноша.
Желань рассмеялась.
- Как императора…
Она закусила губу, не смея продолжать, - а рабичич быстро отошел от нее и уставился в стену, сложив руки на груди.
- А где твоя мать? – спросила Желань.
Она взялась за лоб, кусая губы, ужасаясь услышать ответ, который слетит с губ безбородого. Если Микитка вообще ответит.
Но он ответил – после долгого молчания, не поворачиваясь к Желани:
- Мать продали в служанки одному итальянцу, купцу, и меня с ней… Он понимает по-нашему… и поставил ее над своим хозяйством, чтобы следила, пока его дома нет – пока он ездит по дальним краям. А потом меня продали во дворец, потому что мне не нашлось дела у католика.
Микитка-Иоанн оглянулся на Желань и обжег ее глазами.
- Мать смирилась, потому что хозяин был к ней добр и обещал, что мне будет хорошо…
- Ты не виделся с ней больше, - прошептала Желань: как будто это и так было непонятно. Юноша качнул головой.
- Что я, совсем дурной? – сжимая красивые губы, проговорил он; на щеках пламенели розы. - Даже если бы и позволили…
Он говорил сейчас как мужчина, как ни разу не говорил в их первую встречу, - но мужчиной, мужем, ему уже никогда не быть.
Желань быстро подошла к нему… ей так хотелось обнять его, утешить; но она знала, что нельзя. Микитка повернулся к ней, и она положила ему ладонь на плечо, не посмев больше заговорить.
Он прижался горячим лбом к ее груди – на несколько страшных, бесценных мгновений – а потом, сняв руку пленницы со своего плеча, молча последовал, куда направлялся. Дверь одного из покоев гинекея открылась на его стук - и снова закрылась.
Желань опустилась на пол и, закрыв лицо руками, всплакнула. Нет, она не плакала долго – она быстро овладела собой, как несчастный рабичич, который сейчас держался так стойко. Одному Богу было известно, что Микитка таил в сердце против своих мучителей.
Желань встала на ноги, вздохнула и перекрестила ту дверь, за которой он исчез. Потом перекрестила свой лоб и, поклонившись невидимым заступникам, вернулась к себе.
Метаксия была по-прежнему у нее в спальне – но теперь занималась делом: она шила при свече. Вскинув голову на звук шагов, взглянула своими умными серыми глазами в лицо наложницы. Ни о чем не спросила.
- Хочешь поработать со мной? – предложила прислужница.
Желань с готовностью кивнула; и вскоре забылась за рукодельем вместе с гречанкой, голова к голове. Забылась хотя бы ненадолго.
Господин пришел к ней через день после приезда василевса. Теперь у Желани были крови, нечистые дни; и Фома Нотарас не притронулся к ней. Они уже могли немного говорить – и грек остался у нее для разговора...
Хозяин спросил на своем языке, как ее зовут, - неужели не выведал этого у Метаксии? Или ему попросту не было никакого дела до ее прежней жизни?
- Меня зовут Желанью, - сказала рабыня по-гречески. Ромей улыбнулся и, ласково приблизив к себе ее голову, поцеловал ее в лоб.
- Это языческое имя, тебе оно больше не годится, - сказал он. – Теперь тебя будут называть Феодорой.
Желань заплакала. А ромей сел рядом, обнял ее за плечи и взял за руку, как сердечный друг. Ласково сказал, что скоро поведет ее в цирк, на представление – путь в цирк вел прямо из Большого дворца, чтобы василевсы могли развлекаться, не выходя из дому. В честь возвращения императора устраивают игры…
Пленница смутно понимала, о чем говорит хозяин, - и это смутное понимание отчего-то наполняло ее ужасом; она продолжала плакать, не поднимая глаз. Патрикий еще раз поцеловал ее в лоб, погладил по волосам и ушел.
Желань подняла голову, глядя ему вслед сверкающими влажными глазами, - потом вытерла глаза и перестала плакать.
* Иоанн VIII Палеолог, предшественник Константина XI Драгаша, последнего императора Византии, и предок Софьи Палеолог, греческой царевны, выданной замуж за московского великого князя Ивана III.
* Элитное подразделение византийской армии.
Re: Ставрос
Глава 5
Ей снилось, что в Остриане Нерон со свитой августианов, вакханок, корибантов и гладиаторов давит украшенной розами колесницей толпы христиан, а Виниций хватает ее в объятья, втаскивает на колесницу и, прижимая к груди, шепчет: "Идем к нам!"
Генрик Сенкевич, "Камо грядеши"
- Мы не можем с этим смириться, - сказал патрикий Нотарас.
Усталое лицо сидящего императора озаряло солнце, светившее в окно, – но не оживляло, а словно подчеркивало его годы, его бремя.
- Это решалось при вашем участии, - тихо возразил василевс, - или теперь вы берете свои слова назад? Без поддержки Рима мы ничего не сможем сделать.
Он поднял голову и взглянул в глаза патрикия.
- Что в мое отсутствие случилось такого, что заставило вас склониться на другую сторону? – снова прозвучал его негромкий, ровный голос. - Почему теперь вы опять сделались так непримиримы к католикам?
Под его пристальным взглядом на белых щеках Фомы выступил румянец. Благолепное лицо василевса изменилось – слабая недобрая улыбка тронула губы; но он ничего не сказал.
- Нам нужно молиться, - глубоко вздохнув, проговорил император, - нужно молиться всем братьям-христианам об отвращении грозящей империи чумы. Быть может, если мы соединим праведные слова с праведною жизнью, случится чудо...
- Время чудес для нас давно миновало, государь. Знамение Риму было послано полторы тысячи лет назад, - резко сказал патрикий.
Сейчас это был далеко не тот лукавый и нежный человек, которого принимала у себя рабыня-славянка, - а прямой, властный муж, как и следовало его благородному званию. Но Фома Нотарас перешел грань; император резко встал с кресла, запахнувшись в багряную мантию. На его щеках выступил такой же багрянец.
- Я не желаю слушать, как вы богохульствуете. Приказываю вам идти и помолиться, чтобы Господь прояснил ваш разум, - отрывисто приказал Иоанн. – Сейчас нас ничто не должно ни смущать, ни разъединять!
Патрикий несколько мгновений неподвижно смотрел на императора – потом, точно вдруг осознав, где он находится и какой приказ получил, поклонился и быстрыми шагами направился прочь. Взметнулась его щегольская мантия, проскрипели сапоги на высоких каблуках. Престарелый император Иоанн посмотрел ему вслед – потом опять опустил голову, и губ коснулась улыбка, полная отвращения.
Фома Нотарас прошел несколько залов дворца, ничего вокруг не замечая, точно и вправду помутившись рассудком, - а потом провел рукою по лбу… и, встряхнув светлой головой, направился к выходу. Стража у дверей посторонилась, отсалютовав благородному мужу; он не ответил на приветствие. Фома пошел прямо в храм, к великой Святой Софии – непорочной царице Города, царице империи, все еще согревавшей и возвышавшей сердца всех христиан. Там он долго молился, припав лбом к полу.
Как ему теперь хотелось жить! Патрикий был еще довольно молод – ему не исполнилось и тридцати; но уже утомлен жизнью. Он пресыщался, еще не попробовав ни блюда, ни женщины, а только взглянув на них и поняв, какой вкус будет у его удовольствий, - как и многие благородные люди империи. Теперь же ему как будто дали новые глаза и новые чувства…
Что такое с ним сделалось, чего он причастился?
Патрикий не желал об этом думать; а только вздохнул и еще раз припал головою к драгоценному мозаичному полу. Потом он перекрестился и встал. Ему следовало бы еще и исповедоваться – но как раз сейчас он этого не мог.
Хотя он привык лгать, а вернее говоря – недоговаривать на исповеди; но сейчас это вдруг показалось невозможным… Не священника ему было страшно, не грустного укоряющего лика Христова; а чего-то, что пробудилось у патрикия внутри.
В Большой цирк стекалось множество людей – и благородных, и низких; в числе их много таких, которых никогда не допустили бы в цирк Рима языческого. Но не Нового Рима, пытавшегося примирить обычаи, сделавшие древнюю империю великой, с обычаями христианскими. Владыки мира примирились со своими рабами, выпестовавшими Христа в катакомбах, примирились со всеми народами, поглощенными империей, - и расточились в обладании Христом и народами; Византия все еще жила, из века в век возрождаясь новою кровью, новым причастием…
Вот и сейчас пленница-московитка, боязливо оглядываясь по сторонам, видела вокруг женщин не выше себя по положению, женщин разных кровей, - таких же безымянных обитательниц гинекея, которых вели развлечься их повелители. Некоторые были беременны; некоторые другие, быть может, тоже, только умело это скрывали. Но все женщины казались довольными и возбужденными; и Желань постаралась придать себе такой же вид.
Метаксия, шагавшая рядом с нею, была довольна и возбуждена без всякого притворства. – Колесничие гонки – это лучшее зрелище, которое я видела, - говорила она славянке, трогая ее то за плечо, то за локоть горячими пальцами; серые глаза Метаксии сияли. – Жаль, что теперь их так редко увидишь! Церковь не любит и запрещает нам развлечения!
Желань хотела спросить – не слишком ли много они развлекаются, не забыли ли все прочее, весь христианский долг; но вспомнила, как ромеи понимают христианство, и промолчала.
Ей иногда казалось, что даже язычники чище этих лицемерных людей…
Она перекрестилась. Метаксия увидела жест своей спутницы и вдруг невежливо толкнула ее в бок.
- Ты не в храм идешь, перестань! – приказала гречанка. – Улыбнись, сейчас все улыбаются!
Желань вспомнила разоренные бани, разоренный дворец – увидела множество смеющихся лиц вокруг и вдруг подумала, что унывать позволено только тем из людей, кто благополучен и спокоен за свою жизнь: остальные не могут позволить себе такой роскоши. Она расправила плечи и улыбнулась. Темные глаза горели огнем, какого в них не появлялось прежде.
Метаксия одобрительно пожала ей локоть.
Они стали рассаживаться, следуя указаниям служителей; конечно, низкие женщины, не имевшие чина и звания, - наложницы и служанки, - садились отдельно. Желань посмотрела вокруг себя и скоро отыскала благородных господ, среди которых были и мужчины, и женщины. В числе их был и ее хозяин, сейчас со смехом переговаривавшийся с какой-то красавицей. Желань вдруг что-то укололо в сердце.
У знатных греков было столько чинов и званий – Метаксия пыталась учить ее, но Желань скоро запуталась и только замотала головой, отказываясь слушать дальше. Ей это аристократство представилось какой-то сверкающей громадой, которая давит на плечи простых людей и бесчисленных рабов, вроде нее. Она не хотела присоединиться к ним, чтобы давить народ – и всех страдателей - еще сильнее!
Но теперь ей больно было видеть, как ее господин наслаждается обществом таких же, как он сам, утонченных, всевластных мужчин и женщин; ей хотелось в эти минуты быть среди них…
Метаксия похлопала ее по плечу.
- Не зазевайся – а то как раз лошадь растопчет, - с усмешкой проговорила гречанка. – Никуда не уйдет твой Нотарас! Ты повисла у него на шее - и этим пленила его куда сильнее, чем те, кто ему не принадлежит!
Желань ахнула и закрылась покрывалом от стыда. И только тут осознала, что Метаксия тоже шла с ними, с наложницами; и нисколько не смущалась этим. А ведь была, несомненно, далеко не из простых – только теперь девушка из Руси, начавшая понимать ромеев, начинала это понимать.
Узницы гинекея сели рядом на скамью, толкаясь коленями, и Желань ощутила восторг, который испытывали ее соседки, жившие одним днем. Она засмеялась вместе с ними; тот же недобрый блеск появился в глазах.
Напротив них появился прислужник, предложивший женщинам засахаренные фрукты и пирожки, и Метаксия без стеснения схватила угощение и поделилась со своей подопечной. Желань посмотрела в лицо юному греку, стоявшему опустив глаза, – и вдруг спросила себя, не евнух ли он…
Надкусив сладкий пирожок, она осмотрелась. Большой дворец порою казался Желани пустым, город – обезлюдевшим, особенно в те знойные часы, когда ей дозволялось покинуть стены своей тюрьмы; но ипподром оказался битком набит, влиятельными и простыми людьми всех родов, какие Метаксия тщетно пыталась заставить ее выучить. Весь амфитеатр, казалось, дышал единой грудью - но пестрел всеми красками, приятными глазу. Знать была роскошно одета – в яркие желтые, алые, голубые шелк и бархат; Желань впервые увидела и изумилась особому роду византийского искусства - многие платья, хотя и глухие и тяжелые, были затканы и вышиты изображениями святых, а то и целыми сценами из Священного Писания, отделанными драгоценными камнями. Осиянные нимбами лики взирали с грудей - и даже со спин счастливых приближенных василевса; и на одни из икон господа Византии сейчас садились, помещаясь на мраморных скамьях, а другие образы, скорбные и негодующие, остались взирать на бесовскую потеху со своих высоких мест.
Желань покачала головой и перекрестилась, невзирая на недовольство Метаксии. Нет: на Руси никогда бы не попустили такому беззаконию…
Потом Желань увидела, как все встают; Метаксия подхватила ее под руку и поставила на ноги прежде, чем славянка осознала, что происходит. Появился император в сопровождении самых доверенных приближенных; в числе их был тот самый человек, который продал Желань во дворец. Как и тогда, его голову сжимал золотой обруч, и он посматривал по сторонам с горделивой и веселой наглостью. С василевсом шли также несколько священнослужителей – он сам сейчас походил на священнослужителя своим тяжелым парчовым облачением.
- Многая лета императору! Многая лета! – выкрикнули тут все, кто находился в цирке; и даже Желань, лишь несколько дней назад получившая имя Феодоры, выучилась по-гречески достаточно, чтобы повторить славословие без запинки и без раздумий.
Зрители усердно рукоплескали. Иоанн поднял голову – и воздел руку в ответном приветствии. Цирк чуть не разорвался от восторгов; горячие греки топали ногами, потрясали кулаками, кричали.
Император еще раз вскинул руку – и воцарилась тишина.
Нет, не полная – в цирке еще, ряд за рядом, умирал возбужденный гул; но зрители уже садились обратно, благоговейно замирая.
Император обвел взглядом притихший цирк, его голубые глаза остановились на обитательницах гинекея – Желани показалось, что точно на ней…
Потом василевс проследовал на почетное место, где воссел со своей свитой и своими святыми отцами. Желань заметила кое-где также яркие оранжевые облачения и такие же шапочки, покрывавшие стриженые головы: Метаксия еще раньше объяснила ей, что так одеваются католические священники.
- Сколько святых людей, - прошептала московитка, подразумевая, что в цирке им вовсе не место. Метаксия досадливо вздохнула, поняв ее превратно.
- Ах, как жаль, что ты не бывала в Большом цирке прежде, в дни его славы! Уж тогда-то здесь было на что посмотреть!
Перед ними снова остановился отрок-служитель, предложивший женщинам прохладительные напитки; и Метаксия снова оделила питьем себя и свою подопечную.
Потом взяла ее руку себе на колено и сжала в своей – было так странно смотреть на белую тонкую руку, которую сжимала смуглая и сильная, с накрашенными ногтями.
- Теперь смотри! – приказала гречанка.
Желань увидела, как на посыпанную песком арену в четыре ряда выехали возницы в разного цвета одеяниях: сильные и красивые греки, которые сверкали белыми зубами, улыбаясь зрителям. Славянка привстала со скамьи, увидев, что колесничие правят квадригами: страшно было даже смотреть на то, как один человек удерживает четырех коней, а уж каково оказаться на его месте... Породистые лошади нетерпеливо ржали, мотая головами, увенчанными плюмажами; и такими же породистыми и нетерпеливыми, исполненными животной силы были возницы.
- Как хороши! Божественны! – воскликнула Метаксия; многие женщины рядом тоже пожирали глазами колесничих и не скупились на замечания. Метаксия стиснула руку Желани. – Да поможет тебе Аполлон, Димитрий! – проговорила она, глядя на мощного возницу в зеленом одеянии, с гривой каштановых волос, струящихся из-под посеребренного шлема с пучком зеленых же перьев.
- Я стою за зеленых, - вполголоса заметила она Желани, как будто той это могло что-то сказать; а может, Метаксия потому и говорила, что славянка не знала ничего и никому не могла ее выдать. – Я не ставлю на них, потому что низкие женщины не участвуют в играх… но всем сердцем надеюсь, что мой Димитрий победит! – прибавила гречанка.
- А на кого ставит Фома? – тихо спросила Желань, впервые назвав так своего господина. Метаксия рассмеялась.
- Несравненный патрикий со мною заодно, - сказала она. – А вот император стоит за голубых*, как и его доместик схол*!
Она кивнула в сторону благородного работорговца в золотом венце.
Желань понимала, что эти партии означают больше, чем просто игру; но дальше этого ее ум зайти не мог. Забава для гречина легко перетекала в смертельную вражду; и вражда была игрою…
Зрители дружно закричали, когда квадриги вынеслись вперед; в глазах у Желани они слились в многоцветный неукротимый вихрь. Она стиснула руки и только пыталась различить, стоят ли еще в колесницах люди; выпасть и убиться, должно быть, проще простого!
Она вскочила со скамьи вместе с Метаксией, потому что гречанка подхватила ее на ноги и стояла вся дрожа от волнения и сжимая ее плечо, выкрикивая слова ободрения своему "зеленому". Раньше Желани представлялось, что только мужчины могут вести себя так необузданно; но здесь многие зрительницы не отставали от Метаксии.
Желани стало дурно и она села на место, закрыв лицо руками. Этого было слишком много для нее. Ее одолели чужие, чуждые ей страсти, бродившие по ипподрому, и она потеряла счет времени...
Потом славянка почувствовала, как Метаксия толкает ее в бок и смеется.
- Победили "красные"! – воскликнула она. – Слышишь? Не наши, но и не Иоанна!
- Что ты! – воскликнула Желань, в испуге прижав руку к груди. Она стала осматриваться, не слышал ли кто, - и только потом поняла, что Метаксия говорит с нею на ее языке: с каждым днем гречанка говорила все бойчее, хотя и прежде объяснялась очень хорошо.
Потом в цирке звучала музыка и песни; потом боролись атлеты, белые и черные, как сажа: Желань даже подумала, что это ей грезится. Под конец устроили потешный бой – воины в доспехах, с закрытыми лицами, сражались на мечах. Двое бойцов были ранены и их унесли.
Метаксия уже успела рассказать славянке, что в старину такие поединки шли не до первой крови – а до смерти, между пленными рабами, которых нарочно выучивали для братоубийства…
- Слава богу, это давно прекращено! – сказала гречанка. – Император милосерд, и мы крестились и изменились!
"Ничуть вы не изменились, - подумала Желань, - какие были кровопийцы, звери, такие и остались".
Напоследок все встали, и хор певчих славословил благочестивейшего и всеблаженного императора.
Потом Метаксия проводила Желань в комнату, держа под руку, потому что у славянки голова шла кругом.
Когда рабыня осталась одна, к ней пришел Фома Нотарас, который обнял ее и поцеловал.
- Как тебе понравилось зрелище, Феодора? – спросил он, приподняв ее подбородок. Глаза его, как и раньше, светились ласковым превосходством – но не будь ее ум так затуманен, Желань заметила бы, что ромей словно бы чего-то ищет в ее лице. Прежде он так не смотрел.
Видя, что наложница не отвечает, Фома повторил свой вопрос. Желань посмотрела исподлобья.
- Дивно, лепо…
Поняв, что говорит по-русски, она заставила себя улыбнуться и сказала по-гречески:
- Чудно!
А сама подумала, что никогда еще не видела таких бесовских игрищ – еще и с благословения церкви…
Ей показалось, что хозяин сейчас захочет ее, - но он еще раз посмотрел ей в глаза, потом возложил руку на голову и, улыбнувшись так же странно, точно сомневался и в себе, и в ней, вышел вон.
Он пришел только ночью, когда Желань ждала его, - хотя она не больше прежнего могла сказать, что рада такому принуждению, но была готова к тому смятению чувств, сродни императорским игрищам, в которое хозяин ввергал ее.
* Командующий войсками одной из областей (Востока или Запада), чин I класса в византийской табели о рангах.
* Колесничие гонки в Византии, как и прежде в Риме, нередко имели политический характер, и противостояние партий возниц означало политические разногласия. В частности, некоторыми историками считается, что голубые всегда стояли за господствующую религию, отстаивали интересы церкви и ее политическую независимость, а зеленые были либералами, сочувствовали еретическим императорам и даже в некоторой степени языческим традициям.
Ей снилось, что в Остриане Нерон со свитой августианов, вакханок, корибантов и гладиаторов давит украшенной розами колесницей толпы христиан, а Виниций хватает ее в объятья, втаскивает на колесницу и, прижимая к груди, шепчет: "Идем к нам!"
Генрик Сенкевич, "Камо грядеши"
- Мы не можем с этим смириться, - сказал патрикий Нотарас.
Усталое лицо сидящего императора озаряло солнце, светившее в окно, – но не оживляло, а словно подчеркивало его годы, его бремя.
- Это решалось при вашем участии, - тихо возразил василевс, - или теперь вы берете свои слова назад? Без поддержки Рима мы ничего не сможем сделать.
Он поднял голову и взглянул в глаза патрикия.
- Что в мое отсутствие случилось такого, что заставило вас склониться на другую сторону? – снова прозвучал его негромкий, ровный голос. - Почему теперь вы опять сделались так непримиримы к католикам?
Под его пристальным взглядом на белых щеках Фомы выступил румянец. Благолепное лицо василевса изменилось – слабая недобрая улыбка тронула губы; но он ничего не сказал.
- Нам нужно молиться, - глубоко вздохнув, проговорил император, - нужно молиться всем братьям-христианам об отвращении грозящей империи чумы. Быть может, если мы соединим праведные слова с праведною жизнью, случится чудо...
- Время чудес для нас давно миновало, государь. Знамение Риму было послано полторы тысячи лет назад, - резко сказал патрикий.
Сейчас это был далеко не тот лукавый и нежный человек, которого принимала у себя рабыня-славянка, - а прямой, властный муж, как и следовало его благородному званию. Но Фома Нотарас перешел грань; император резко встал с кресла, запахнувшись в багряную мантию. На его щеках выступил такой же багрянец.
- Я не желаю слушать, как вы богохульствуете. Приказываю вам идти и помолиться, чтобы Господь прояснил ваш разум, - отрывисто приказал Иоанн. – Сейчас нас ничто не должно ни смущать, ни разъединять!
Патрикий несколько мгновений неподвижно смотрел на императора – потом, точно вдруг осознав, где он находится и какой приказ получил, поклонился и быстрыми шагами направился прочь. Взметнулась его щегольская мантия, проскрипели сапоги на высоких каблуках. Престарелый император Иоанн посмотрел ему вслед – потом опять опустил голову, и губ коснулась улыбка, полная отвращения.
Фома Нотарас прошел несколько залов дворца, ничего вокруг не замечая, точно и вправду помутившись рассудком, - а потом провел рукою по лбу… и, встряхнув светлой головой, направился к выходу. Стража у дверей посторонилась, отсалютовав благородному мужу; он не ответил на приветствие. Фома пошел прямо в храм, к великой Святой Софии – непорочной царице Города, царице империи, все еще согревавшей и возвышавшей сердца всех христиан. Там он долго молился, припав лбом к полу.
Как ему теперь хотелось жить! Патрикий был еще довольно молод – ему не исполнилось и тридцати; но уже утомлен жизнью. Он пресыщался, еще не попробовав ни блюда, ни женщины, а только взглянув на них и поняв, какой вкус будет у его удовольствий, - как и многие благородные люди империи. Теперь же ему как будто дали новые глаза и новые чувства…
Что такое с ним сделалось, чего он причастился?
Патрикий не желал об этом думать; а только вздохнул и еще раз припал головою к драгоценному мозаичному полу. Потом он перекрестился и встал. Ему следовало бы еще и исповедоваться – но как раз сейчас он этого не мог.
Хотя он привык лгать, а вернее говоря – недоговаривать на исповеди; но сейчас это вдруг показалось невозможным… Не священника ему было страшно, не грустного укоряющего лика Христова; а чего-то, что пробудилось у патрикия внутри.
В Большой цирк стекалось множество людей – и благородных, и низких; в числе их много таких, которых никогда не допустили бы в цирк Рима языческого. Но не Нового Рима, пытавшегося примирить обычаи, сделавшие древнюю империю великой, с обычаями христианскими. Владыки мира примирились со своими рабами, выпестовавшими Христа в катакомбах, примирились со всеми народами, поглощенными империей, - и расточились в обладании Христом и народами; Византия все еще жила, из века в век возрождаясь новою кровью, новым причастием…
Вот и сейчас пленница-московитка, боязливо оглядываясь по сторонам, видела вокруг женщин не выше себя по положению, женщин разных кровей, - таких же безымянных обитательниц гинекея, которых вели развлечься их повелители. Некоторые были беременны; некоторые другие, быть может, тоже, только умело это скрывали. Но все женщины казались довольными и возбужденными; и Желань постаралась придать себе такой же вид.
Метаксия, шагавшая рядом с нею, была довольна и возбуждена без всякого притворства. – Колесничие гонки – это лучшее зрелище, которое я видела, - говорила она славянке, трогая ее то за плечо, то за локоть горячими пальцами; серые глаза Метаксии сияли. – Жаль, что теперь их так редко увидишь! Церковь не любит и запрещает нам развлечения!
Желань хотела спросить – не слишком ли много они развлекаются, не забыли ли все прочее, весь христианский долг; но вспомнила, как ромеи понимают христианство, и промолчала.
Ей иногда казалось, что даже язычники чище этих лицемерных людей…
Она перекрестилась. Метаксия увидела жест своей спутницы и вдруг невежливо толкнула ее в бок.
- Ты не в храм идешь, перестань! – приказала гречанка. – Улыбнись, сейчас все улыбаются!
Желань вспомнила разоренные бани, разоренный дворец – увидела множество смеющихся лиц вокруг и вдруг подумала, что унывать позволено только тем из людей, кто благополучен и спокоен за свою жизнь: остальные не могут позволить себе такой роскоши. Она расправила плечи и улыбнулась. Темные глаза горели огнем, какого в них не появлялось прежде.
Метаксия одобрительно пожала ей локоть.
Они стали рассаживаться, следуя указаниям служителей; конечно, низкие женщины, не имевшие чина и звания, - наложницы и служанки, - садились отдельно. Желань посмотрела вокруг себя и скоро отыскала благородных господ, среди которых были и мужчины, и женщины. В числе их был и ее хозяин, сейчас со смехом переговаривавшийся с какой-то красавицей. Желань вдруг что-то укололо в сердце.
У знатных греков было столько чинов и званий – Метаксия пыталась учить ее, но Желань скоро запуталась и только замотала головой, отказываясь слушать дальше. Ей это аристократство представилось какой-то сверкающей громадой, которая давит на плечи простых людей и бесчисленных рабов, вроде нее. Она не хотела присоединиться к ним, чтобы давить народ – и всех страдателей - еще сильнее!
Но теперь ей больно было видеть, как ее господин наслаждается обществом таких же, как он сам, утонченных, всевластных мужчин и женщин; ей хотелось в эти минуты быть среди них…
Метаксия похлопала ее по плечу.
- Не зазевайся – а то как раз лошадь растопчет, - с усмешкой проговорила гречанка. – Никуда не уйдет твой Нотарас! Ты повисла у него на шее - и этим пленила его куда сильнее, чем те, кто ему не принадлежит!
Желань ахнула и закрылась покрывалом от стыда. И только тут осознала, что Метаксия тоже шла с ними, с наложницами; и нисколько не смущалась этим. А ведь была, несомненно, далеко не из простых – только теперь девушка из Руси, начавшая понимать ромеев, начинала это понимать.
Узницы гинекея сели рядом на скамью, толкаясь коленями, и Желань ощутила восторг, который испытывали ее соседки, жившие одним днем. Она засмеялась вместе с ними; тот же недобрый блеск появился в глазах.
Напротив них появился прислужник, предложивший женщинам засахаренные фрукты и пирожки, и Метаксия без стеснения схватила угощение и поделилась со своей подопечной. Желань посмотрела в лицо юному греку, стоявшему опустив глаза, – и вдруг спросила себя, не евнух ли он…
Надкусив сладкий пирожок, она осмотрелась. Большой дворец порою казался Желани пустым, город – обезлюдевшим, особенно в те знойные часы, когда ей дозволялось покинуть стены своей тюрьмы; но ипподром оказался битком набит, влиятельными и простыми людьми всех родов, какие Метаксия тщетно пыталась заставить ее выучить. Весь амфитеатр, казалось, дышал единой грудью - но пестрел всеми красками, приятными глазу. Знать была роскошно одета – в яркие желтые, алые, голубые шелк и бархат; Желань впервые увидела и изумилась особому роду византийского искусства - многие платья, хотя и глухие и тяжелые, были затканы и вышиты изображениями святых, а то и целыми сценами из Священного Писания, отделанными драгоценными камнями. Осиянные нимбами лики взирали с грудей - и даже со спин счастливых приближенных василевса; и на одни из икон господа Византии сейчас садились, помещаясь на мраморных скамьях, а другие образы, скорбные и негодующие, остались взирать на бесовскую потеху со своих высоких мест.
Желань покачала головой и перекрестилась, невзирая на недовольство Метаксии. Нет: на Руси никогда бы не попустили такому беззаконию…
Потом Желань увидела, как все встают; Метаксия подхватила ее под руку и поставила на ноги прежде, чем славянка осознала, что происходит. Появился император в сопровождении самых доверенных приближенных; в числе их был тот самый человек, который продал Желань во дворец. Как и тогда, его голову сжимал золотой обруч, и он посматривал по сторонам с горделивой и веселой наглостью. С василевсом шли также несколько священнослужителей – он сам сейчас походил на священнослужителя своим тяжелым парчовым облачением.
- Многая лета императору! Многая лета! – выкрикнули тут все, кто находился в цирке; и даже Желань, лишь несколько дней назад получившая имя Феодоры, выучилась по-гречески достаточно, чтобы повторить славословие без запинки и без раздумий.
Зрители усердно рукоплескали. Иоанн поднял голову – и воздел руку в ответном приветствии. Цирк чуть не разорвался от восторгов; горячие греки топали ногами, потрясали кулаками, кричали.
Император еще раз вскинул руку – и воцарилась тишина.
Нет, не полная – в цирке еще, ряд за рядом, умирал возбужденный гул; но зрители уже садились обратно, благоговейно замирая.
Император обвел взглядом притихший цирк, его голубые глаза остановились на обитательницах гинекея – Желани показалось, что точно на ней…
Потом василевс проследовал на почетное место, где воссел со своей свитой и своими святыми отцами. Желань заметила кое-где также яркие оранжевые облачения и такие же шапочки, покрывавшие стриженые головы: Метаксия еще раньше объяснила ей, что так одеваются католические священники.
- Сколько святых людей, - прошептала московитка, подразумевая, что в цирке им вовсе не место. Метаксия досадливо вздохнула, поняв ее превратно.
- Ах, как жаль, что ты не бывала в Большом цирке прежде, в дни его славы! Уж тогда-то здесь было на что посмотреть!
Перед ними снова остановился отрок-служитель, предложивший женщинам прохладительные напитки; и Метаксия снова оделила питьем себя и свою подопечную.
Потом взяла ее руку себе на колено и сжала в своей – было так странно смотреть на белую тонкую руку, которую сжимала смуглая и сильная, с накрашенными ногтями.
- Теперь смотри! – приказала гречанка.
Желань увидела, как на посыпанную песком арену в четыре ряда выехали возницы в разного цвета одеяниях: сильные и красивые греки, которые сверкали белыми зубами, улыбаясь зрителям. Славянка привстала со скамьи, увидев, что колесничие правят квадригами: страшно было даже смотреть на то, как один человек удерживает четырех коней, а уж каково оказаться на его месте... Породистые лошади нетерпеливо ржали, мотая головами, увенчанными плюмажами; и такими же породистыми и нетерпеливыми, исполненными животной силы были возницы.
- Как хороши! Божественны! – воскликнула Метаксия; многие женщины рядом тоже пожирали глазами колесничих и не скупились на замечания. Метаксия стиснула руку Желани. – Да поможет тебе Аполлон, Димитрий! – проговорила она, глядя на мощного возницу в зеленом одеянии, с гривой каштановых волос, струящихся из-под посеребренного шлема с пучком зеленых же перьев.
- Я стою за зеленых, - вполголоса заметила она Желани, как будто той это могло что-то сказать; а может, Метаксия потому и говорила, что славянка не знала ничего и никому не могла ее выдать. – Я не ставлю на них, потому что низкие женщины не участвуют в играх… но всем сердцем надеюсь, что мой Димитрий победит! – прибавила гречанка.
- А на кого ставит Фома? – тихо спросила Желань, впервые назвав так своего господина. Метаксия рассмеялась.
- Несравненный патрикий со мною заодно, - сказала она. – А вот император стоит за голубых*, как и его доместик схол*!
Она кивнула в сторону благородного работорговца в золотом венце.
Желань понимала, что эти партии означают больше, чем просто игру; но дальше этого ее ум зайти не мог. Забава для гречина легко перетекала в смертельную вражду; и вражда была игрою…
Зрители дружно закричали, когда квадриги вынеслись вперед; в глазах у Желани они слились в многоцветный неукротимый вихрь. Она стиснула руки и только пыталась различить, стоят ли еще в колесницах люди; выпасть и убиться, должно быть, проще простого!
Она вскочила со скамьи вместе с Метаксией, потому что гречанка подхватила ее на ноги и стояла вся дрожа от волнения и сжимая ее плечо, выкрикивая слова ободрения своему "зеленому". Раньше Желани представлялось, что только мужчины могут вести себя так необузданно; но здесь многие зрительницы не отставали от Метаксии.
Желани стало дурно и она села на место, закрыв лицо руками. Этого было слишком много для нее. Ее одолели чужие, чуждые ей страсти, бродившие по ипподрому, и она потеряла счет времени...
Потом славянка почувствовала, как Метаксия толкает ее в бок и смеется.
- Победили "красные"! – воскликнула она. – Слышишь? Не наши, но и не Иоанна!
- Что ты! – воскликнула Желань, в испуге прижав руку к груди. Она стала осматриваться, не слышал ли кто, - и только потом поняла, что Метаксия говорит с нею на ее языке: с каждым днем гречанка говорила все бойчее, хотя и прежде объяснялась очень хорошо.
Потом в цирке звучала музыка и песни; потом боролись атлеты, белые и черные, как сажа: Желань даже подумала, что это ей грезится. Под конец устроили потешный бой – воины в доспехах, с закрытыми лицами, сражались на мечах. Двое бойцов были ранены и их унесли.
Метаксия уже успела рассказать славянке, что в старину такие поединки шли не до первой крови – а до смерти, между пленными рабами, которых нарочно выучивали для братоубийства…
- Слава богу, это давно прекращено! – сказала гречанка. – Император милосерд, и мы крестились и изменились!
"Ничуть вы не изменились, - подумала Желань, - какие были кровопийцы, звери, такие и остались".
Напоследок все встали, и хор певчих славословил благочестивейшего и всеблаженного императора.
Потом Метаксия проводила Желань в комнату, держа под руку, потому что у славянки голова шла кругом.
Когда рабыня осталась одна, к ней пришел Фома Нотарас, который обнял ее и поцеловал.
- Как тебе понравилось зрелище, Феодора? – спросил он, приподняв ее подбородок. Глаза его, как и раньше, светились ласковым превосходством – но не будь ее ум так затуманен, Желань заметила бы, что ромей словно бы чего-то ищет в ее лице. Прежде он так не смотрел.
Видя, что наложница не отвечает, Фома повторил свой вопрос. Желань посмотрела исподлобья.
- Дивно, лепо…
Поняв, что говорит по-русски, она заставила себя улыбнуться и сказала по-гречески:
- Чудно!
А сама подумала, что никогда еще не видела таких бесовских игрищ – еще и с благословения церкви…
Ей показалось, что хозяин сейчас захочет ее, - но он еще раз посмотрел ей в глаза, потом возложил руку на голову и, улыбнувшись так же странно, точно сомневался и в себе, и в ней, вышел вон.
Он пришел только ночью, когда Желань ждала его, - хотя она не больше прежнего могла сказать, что рада такому принуждению, но была готова к тому смятению чувств, сродни императорским игрищам, в которое хозяин ввергал ее.
* Командующий войсками одной из областей (Востока или Запада), чин I класса в византийской табели о рангах.
* Колесничие гонки в Византии, как и прежде в Риме, нередко имели политический характер, и противостояние партий возниц означало политические разногласия. В частности, некоторыми историками считается, что голубые всегда стояли за господствующую религию, отстаивали интересы церкви и ее политическую независимость, а зеленые были либералами, сочувствовали еретическим императорам и даже в некоторой степени языческим традициям.
Re: Ставрос
Глава 6
- Мне очень нравится ваша carissima*, синьор, - сказал итальянец в разноцветном берете, с живыми черными глазами – слишком живыми на увядшем желтом лице.
Фома Нотарас поднял брови.
- Carissima?
Дела гинекея, любовные дела у греков никогда не обсуждались так прямо, как это было принято у папистов.
- Ваша женщина из Московии, - с усмешкой пояснил его собеседник. Фома покраснел от гнева, сжав губы; итальянец продолжал невозмутимо глядеть на него. Это был художник – Альвизе Беллини, мастер венецианской школы, уже прославившейся при дворе василевса.
Патрикий совладал с собой и спросил:
- И что же?
Он догадывался, к чему ведет живописец, и это ему не нравилось – это было почти как та мерзкая уступка, уния с католиками, на которую все-таки пришлось пойти греческой церкви.
Мастер вздохнул, сложив на животе узловатые руки.
- Эта женщина отличается красотой, какой я не встречал в Италии – и даже здесь, при дворе императора, - задумчиво произнес он; а жадный блеск в глазах говорил, что итальянец припоминает каждую черту полюбившегося ему лица. – Я бы очень желал написать ее, чтобы увезти с собою в Венецию.
Патрикий свел брови. Прежде, чем благородный муж холодно отказал ему и отправил прочь, ремесленник торопливо прибавил:
- Я заплачу, не вы! Вам это не будет стоить ни гроша!
Фома Нотарас погладил чистый подбородок и улыбнулся, пристально рассматривая настырного живописца, - тому стало не по себе. Он знал, что греческая мягкость бывает пострашнее итальянского бешенства.
А потом ромей сказал:
- Она не согласится. Она очень застенчива – и сочтет оскорблением такое внимание к своей красоте.
- Мадонна, - пробормотал Беллини. – Какая потеря!
- Нет, не мадонна, - усмехнувшись, возразил патрикий. – У нас Богоматерь не принято представлять в земном образе, как и делить ее на число областей, которым она покровительствует!
- Вы очень образованны и богобоязненны, синьор, - поклонившись, сказал Беллини.
Он помешкал, подбирая новые слова для убеждения, - но тут ромей неожиданно сказал:
- Я соглашусь, чтобы написали портрет Феодоры, - но с моим условием, а не с вашим. Я заплачу вам – а картина останется у нас.
Беллини на несколько мгновений опешил. Ромей, склонившись к своему собеседнику, смотрел ему в лицо так, что стало ясно – выторговать картину не удастся. По крайней мере, сейчас.
- Будь по-вашему, синьор, - наконец сказал мастер. – Я смиренно склоняюсь перед всеми вашими условиями.
Помолчав, живописец спросил:
- Когда я смогу видеть синьорину?
Грек склонил голову в раздумье – потом ответил, немного помрачнев:
- Я сам уведомлю ее и дам вам ответ.
Беллини вскинул голову, поднял руку, точно вдруг вспомнив о досадной мелочи:
- Но ведь синьорина, конечно, не понимает по-итальянски?
Фома улыбнулся.
- Во дворце есть благородная госпожа, которая сможет переводить для вас и для Феодоры, - ответил ромей: теперь с благожелательной уверенностью властелина. - Это патрикия Метаксия Калокир, дама большого ума и учености – она знает четыре языка, считая и язык Западного Рима.
- Буду счастлив таким знакомством, - сказал совершенно удовлетворенный мастер. Он еще больше оживился, когда ему указали на новую примечательную женщину.
Художник простился с патрикием и ушел. Он не видел, что ромей провожает его взглядом, полным холодного подозрения.
Императорские игрища продолжались еще неделю – необыкновенно долго на памяти греков эпохи заката: Желань была потрясена, изумлена, очарована. Показывали укротителей львов и тигров – великолепных хищников южных стран; показывали группы акробатов, которые составляли из своих тел немыслимые фигуры и гнулись во все стороны, точно змеи; показывали магов, глотающих огонь и протыкающих себя иглами и ножами без всякого вреда.
- Это обман! - сказала наконец Желань. - Они глаза отводят…
- Бывает, что и обман, - легко согласилась Метаксия, - но у нас есть и настоящие чудотворцы.
Желань горько улыбнулась.
- Когда придет срок, они вам главного чуда не сделают, - сказала она, - не спасут вас!
И тогда Метаксия сделалась серьезной, даже мрачной, как героини древних греческих трагедий, на которые женщин не допускали.
- Когда придет срок, славянка, нас не спасет ничто.
Тут она перекрестилась сама, в первый раз на глазах пленницы, - но этот жест не мог перечеркнуть глубинного, древнего ужаса, открывшегося в ее словах.
Потом Желань отказалась посещать игры, попросив своего господина через Метаксию. Она предпочла уединиться в комнатах за рукоделием, со своими новыми мыслями, которых появилось необыкновенно много, – и патрикий отнесся к ее желанию с большим сочувствием, чем она ожидала. Он опять перестал появляться в гинекее; бывал ли Фома Нотарас в цирке, Метаксия, конечно, знала, но ничего не говорила ей.
Желань очень смутилась и даже испугалась, когда в один из таких дней блаженного затворничества Фома Нотарас пришел к ней с незнакомым итальянцем – живописцем: человеком неслыханного на Руси занятия. Ей сказали, чего от нее хочет заморский гость, - а славянке представилось, что позволить себя нарисовать, точно кумира, еще хуже, чем сидеть в цирке на святых образах. Она бы отказалась, конечно, – но как может рабыня отказаться?
Ей пожелание господина растолковала Метаксия – и она же подобрала слова, которые убедили московитку.
- Соглашайся, это большая честь! Художники из Италии написали только трех благородных жен при дворе василевса, и все остались в восхищении! Неужели ты считаешь, что ты стоишь выше наших господ?
Крупный твердый рот гречанки усмехнулся, когда она увидела растерянность Желани.
- Тщеславие большой грех, Феодора!
Наложница улыбнулась, опустив глаза.
- Что пользы спорить? Вы все равно одолеете меня, - заметила она. – Но я соглашусь, пойду добром.
- Вот и прекрасно, - сказала Метаксия.
А потом вдруг заключила ее в объятия и поцеловала, точно равную.
- Ты чудо как хороша, особенно когда стыдишься! – воскликнула гречанка. – Я понимаю, почему итальянец пленился тобой, - и почему патрикий пленился тобой!
- Надолго ли так хороша, - сумрачно заметила Желань.
Она, однако, не пожалела: в первый раз Желань ушла от дворца далеко и смогла посмотреть Город своими глазами, а не глазами лукавой Метаксии. Их обеих в носилках – закрытых, но с откинутым пологом – отнесли в дом в Августейоне*, где жил прославленный итальяский мастер со своими учениками и слугами. Наряд для такого выхода, конечно, подобрала Метаксия: прислужница одела ее в греческое платье, но не древнее, без рукавов, а новое, глухое и с длинными рукавами. Темные волосы московитки перевили жемчугами и накинули на голову легкое шелковое покрывало; шею отяготило золотое с жемчугом ожерелье в несколько рядов. Она сейчас не уступала никакой знатной даме из свиты августы – и, однако, имела особенное лицо, и придала византийскому наряду особенные, русские краски.
Метаксия, сидевшая в носилках с нею – а вернее, полулежавшая, как будто ей привычно было так путешествовать, - первой выскользнула из носилок и потянула за собой московитку.
- Сюда, ничего не бойся, сестра, - приговаривала она. – Итальянец еще не видел таких прекрасных женщин, как ты! Пусть поглядит, какие цветы Московия принесла к святому престолу нашего василевса!
Желань застыдилась, разгневалась на такие слова – и остановилась опустив руки; но гречанка рассмеялась и поторопила ее, потянув за рукав. Она взяла славянку за руку и повела туда, куда обеих с приветливыми улыбками приглашали чернявые смуглые слуги, которые могли быть итальянцами, а могли – и греками, и турками. Их провели в белый дом за низкой изгородью, увитой виноградом; обеим пришлось нагнуться, когда они входили в дверь. В коридоре тускло горел единственный светильник, но из комнаты лился свет нескольких ламп или многих свечей.
Потом оттуда выступил улыбающийся хозяин.
- Прошу вас, пожалуйте сюда, синьоры, - поклонившись, пригласил он; хотя, конечно, знал, кто такая Желань. Не мог не знать.
Беллини пригласил славянку сесть в деревянное кресло у окна, в которое падали косые лучи солнца. Потом отступил, оглядывая ее, - а потом сам, суетясь, развернул кресло вместе с гостьей, хотя мог бы велеть ей встать.
Метаксия скромно села на подушку в стороне – но наблюдала за происходящим жадными глазами, не упускающими ни единого движения. Гречанка что-то сказала художнику по-итальянски – и тот, одарив ее быстрым взглядом черных глаз, кивнул. Переводить, поняла Желань, если станет совсем непонятно.
Но покамест ей было все понятно – взмахи рук итальянца, показывающие ей, как сесть, как повернуть голову, когда замереть, были выразительнее любых слов. Потом он совсем скрылся за своей подставкой, на которой стоял холст; потом явился его слуга, которого итальянец несколькими резкими словами за чем-то послал. Потом Желань перестала замечать, что творится вокруг нее, - и чувствовать себя…
Очнулась она, когда итальянец вышел из-за своего холста и шагнул к ней; московитка вздрогнула и выпрямилась. Она охнула, ощутив, как одеревенела шея.
И замерла в испуге, когда Беллини взял ее руку и поцеловал. На Руси такие знаки почитания мужчины не оказывали даже боярыням – непристойно… Вот пасть в ноги знатной госпоже – это настоящее смирение, служба.
Метаксия, которая только сейчас напомнила о себе, встала между ними и перевела слова мастера – сложив руки на груди и улыбаясь, как будто гордилась Желанью:
- Синьор Беллини благодарит тебя за терпение и твою красоту – его глаза сегодня устроили себе настоящий пир, любуясь тобою, а руки были счастливы работой, которую ты им задала.
Желань нахмурилась. Это прозвучало не только непристойно – но и так, как будто глаза итальянца смотрели и руки творили сами по себе, а душа о том не знала...
Она улыбнулась и поблагодарила. Метаксия перевела, потом выслушала ответ художника – нахмурившись, задумавшись на мгновение; потом кивнула и опять повернулась к славянке.
- Сейчас подадут угощение. Ты, должно быть, хочешь подкрепиться.
А когда мастер отвлекся, опять отойдя к своему холсту, Метаксия прошептала:
- Ничего здесь не ешь и не пей.
Желань в испуге подняла брови, прикрыла рот рукой – потом кивнула. Как она была глупа, что сама не подумала!
Когда принесли вино и фрукты, Метаксия что-то сказала хозяину и покачала головой. Итальянец сразу поскучнел, вдохновенные глаза потускнели. "Догадался! - подумала Желань. - Господи!"
Однако ничего ужасного не стряслось – Беллини молча проводил обеих женщин к выходу, и даже поклонился на прощанье.
Во дворе было уже темно, и Метаксия крепко схватила славянку за руку. – Проклятье! – пробормотала она сквозь зубы. Желань увидела, как сбоку проскользнули какие-то тени.
Гречанка бросила ее руку и вдруг быстрым движением выхватила что-то из длинного узкого рукава туники. Желань ахнула: в слабом свете месяца блеснул кинжал.
Славянка огляделась, тяжело дыша и прижав кулаки к груди; угрожающие тени скрылись.
Метаксия рассмеялась.
- Трусливые псы!
Они быстро пересекли двор и, отворив калитку, с радостью поспешили к ожидавшим их носилкам и охране. Забравшись внутрь, женщины припали друг к другу, переводя дух.
Когда их подняли и понесли, Желань прошептала, тронув Метаксию за локоть:
- Он ведь догадался!
- Немудрено, - презрительно отозвалась гречанка. – Эти католики только и делают у себя дома, что травят друг друга и опаивают всякими зельями! Он надеялся, что ты еще этого не знаешь!
- А кто был во дворе? – спросила рабыня.
- Может, слуги… наверное, слуги, - ответила Метаксия. – Не знаю, турки или нет, но остерегаться следует все равно.
Желань посмотрела на нее большими глазами и замолчала до конца пути.
Но когда они приехали и выбрались из носилок, она не удержалась и сказала горячие слова, которые так и рвались с языка:
- Ты такая смелая, такая умная… столько знаешь!
Она не могла больше таить свои мысли.
- Ты знатная госпожа, не иначе! А служишь мне уже так долго!
Метаксия улыбнулась; она склонила голову набок, насмешливо прищурив серые глаза – точь-в-точь как Фома Нотарас. Налетевший с моря ветер прибил ко лбу черные завитки волос.
- Бог велел нам всем служить друг другу, - сказала гречанка. – Теперь я есть то, что я есть.
Вот и поговори с такой! Желань замолчала со смешанным восхищением, неприязнью и страхом, как делала уже много раз.
Но когда они пришли в спальню, Желань спросила:
- Мы еще вернемся туда?
- Почему бы и нет? – сказала Метаксия. – Возьмем эскувитов*, пусть стерегут нас по пути и у дома!
Она прибавила, склонившись к московитке:
- Здесь тому, кто боится, лучше вообще не ступать за порог!
Желань кивнула. Это она давно уже знала – Царьград был велик как в добродетелях, так и в пороках: после былой славы погряз в беззаконии так же, как в разврате.
Портрет был окончен через три недели.
Желань не знала, что Метаксия сказала ее хозяину, но они продолжали ходить к итальянцу под надежной охраной эскувитов. Беллини теперь мало разговаривал с ними и больше не предлагал угощения – но Желани было не привыкать к враждебным иноземцам.
Когда же она увидела готовую картину, то была поражена больше, чем на ипподроме. На нее словно смотрела вторая Желань – нет: Феодора, какою желал ее видеть покровитель: темноглазая царевна, хранящая тайны русской и греческой земли.
Портрет повесили в спальне Феодоры, и господин долго с наслаждением любовался им. Он сказал, что Феодора может оставить себе платье и драгоценности, в которых ее писали.
Наложница поблагодарила, но очень устыдилась, когда ей напомнили о ее положении. Однако потом подумала, что весь гинекей и половина двора вместе с нею живет за счет императора и его патрикиев…
Спустя немного времени василевс устроил пир, на который были приглашены многие придворные женщины. Получила приглашение и Феодора, о которой во дворце ходило уже немало слухов. А она все это время жила спокойно, начав потихоньку, под руководством Метаксии, учиться писать и читать по-гречески…
Теперь хозяин не сомневался в ней: и ему особенно нравилась ее верность, какую трудно было найти среди гречанок. Феодора, однако, едва ли могла бы изменить ему, даже если бы и пожелала, - встречи с мужчинами были слишком редки; но самая мысль о таком вызывала у нее отвращение. Ей вообще нездоровилось в последние дни, даже не хотелось идти на торжество; но она перемогла себя.
Метаксия теперь особенно внимательно приглядывалась к славянке – и, конечно, пошла с нею.
В пиршественном зале они опустились на соседние ложа – Желань давно знала об этом обычае ромеев, лежать на пирах, и не удивлялась. Так ей сейчас было и лучше.
Праздник оказался таким же шумным и опасным, как и игры: так же гостей развлекали музыканты, танцоры, глотатели огня, гадатели; так же славословили императора; так же разносили угощения и вина. Но теперь оставаться трезвыми было не нужно – и вино лилось рекой. Слышался смех, крики; Феодора видела, что начались непристойности, тем паче, что все господа лежали. Ей уже хотелось уйти – но она не видела никого, кто мог бы проводить ее.
И тут славянка увидела, что к ней подобрался один изрядно опьяневший гость. Она хотела вскочить, убежать; но не успела, он схватил ее за руки и повалил на ложе. От страха Желань не могла даже закричать; только молча боролась с ним как могла, но грек был куда сильнее. Он стал задирать ее тунику. На бедрах и на груди у нее были повязки*, как она привыкла ходить постоянно, последовав примеру Метаксии – и потому, что так казалось безопасней; но сорвать их ничего не стоило.
Где ее господин? Где Метаксия?.. Ромей попытался зажать ей рот; и тогда Желань словно воспряла, укусила его пальцы и что было сил ударила коленом.
Насильник заорал, согнувшись пополам и кляня ее; но когда славянка попыталась отползти, он изловчился поймать ее за волосы. Желань рванулась - и свалилась на пол, пребольно ударившись животом и грудью; попыталась откатиться в сторону и наконец смогла позвать на помощь.
Она увидела, задыхаясь от страха и боли, как насильника кто-то поднял и отшвырнул, да так, что тот перелетел через два ложа с бесчувственными гостями. Прибежал ее хозяин! Потом Фома бросился к ней, с искаженным от гнева и страха лицом; спросил что-то, и Феодора замотала головой. Нет, ее не обесчестили. Она одернула платье – и тут почувствовала, как у нее резко и больно сжалось в животе; вскрикнув от стыда, Феодора обхватила руками колени. А потом она ощутила кровотечение.
У ее господина вырвался стон ужаса; кто-то вскрикнул рядом – Метаксия. Потом Фома Нотарас поднял ее. Феодора обняла его за шею, но руки не держали.
Метаксия пощупала ей лоб. – Она горит как в аду! – воскликнула гречанка.
"Где ты была?.." - подумала Феодора.
В животе было пусто, тяжко; и так же пусто, тяжко было на душе. Господин бегом понес ее в спальню. Кровь текла и текла; он окутал наложницу своей одеждой.
Потом ее уложили в постель, Феодора закрыла глаза – и ее наконец все отпустило; и ей больше не нужно было держаться.
Она уже не понимала, когда и чьими усилиями остановилась кровь, - только осознала, что Фома Нотарас целует ей руку и плачет. Рабыня попыталась усмехнуться.
- Бог управил, - прошептала Желань. Потом отвернулась к стене и впала в забытье.
* Возлюбленная (ит.).
* Главный форум Константинополя, на который выходил Большой императорский дворец.
* Воины дворцовой стражи в Византии.
* Уже в античной Греции и Риме женщины носили прототип бюстгальтера – повязку, поддерживающую грудь.
- Мне очень нравится ваша carissima*, синьор, - сказал итальянец в разноцветном берете, с живыми черными глазами – слишком живыми на увядшем желтом лице.
Фома Нотарас поднял брови.
- Carissima?
Дела гинекея, любовные дела у греков никогда не обсуждались так прямо, как это было принято у папистов.
- Ваша женщина из Московии, - с усмешкой пояснил его собеседник. Фома покраснел от гнева, сжав губы; итальянец продолжал невозмутимо глядеть на него. Это был художник – Альвизе Беллини, мастер венецианской школы, уже прославившейся при дворе василевса.
Патрикий совладал с собой и спросил:
- И что же?
Он догадывался, к чему ведет живописец, и это ему не нравилось – это было почти как та мерзкая уступка, уния с католиками, на которую все-таки пришлось пойти греческой церкви.
Мастер вздохнул, сложив на животе узловатые руки.
- Эта женщина отличается красотой, какой я не встречал в Италии – и даже здесь, при дворе императора, - задумчиво произнес он; а жадный блеск в глазах говорил, что итальянец припоминает каждую черту полюбившегося ему лица. – Я бы очень желал написать ее, чтобы увезти с собою в Венецию.
Патрикий свел брови. Прежде, чем благородный муж холодно отказал ему и отправил прочь, ремесленник торопливо прибавил:
- Я заплачу, не вы! Вам это не будет стоить ни гроша!
Фома Нотарас погладил чистый подбородок и улыбнулся, пристально рассматривая настырного живописца, - тому стало не по себе. Он знал, что греческая мягкость бывает пострашнее итальянского бешенства.
А потом ромей сказал:
- Она не согласится. Она очень застенчива – и сочтет оскорблением такое внимание к своей красоте.
- Мадонна, - пробормотал Беллини. – Какая потеря!
- Нет, не мадонна, - усмехнувшись, возразил патрикий. – У нас Богоматерь не принято представлять в земном образе, как и делить ее на число областей, которым она покровительствует!
- Вы очень образованны и богобоязненны, синьор, - поклонившись, сказал Беллини.
Он помешкал, подбирая новые слова для убеждения, - но тут ромей неожиданно сказал:
- Я соглашусь, чтобы написали портрет Феодоры, - но с моим условием, а не с вашим. Я заплачу вам – а картина останется у нас.
Беллини на несколько мгновений опешил. Ромей, склонившись к своему собеседнику, смотрел ему в лицо так, что стало ясно – выторговать картину не удастся. По крайней мере, сейчас.
- Будь по-вашему, синьор, - наконец сказал мастер. – Я смиренно склоняюсь перед всеми вашими условиями.
Помолчав, живописец спросил:
- Когда я смогу видеть синьорину?
Грек склонил голову в раздумье – потом ответил, немного помрачнев:
- Я сам уведомлю ее и дам вам ответ.
Беллини вскинул голову, поднял руку, точно вдруг вспомнив о досадной мелочи:
- Но ведь синьорина, конечно, не понимает по-итальянски?
Фома улыбнулся.
- Во дворце есть благородная госпожа, которая сможет переводить для вас и для Феодоры, - ответил ромей: теперь с благожелательной уверенностью властелина. - Это патрикия Метаксия Калокир, дама большого ума и учености – она знает четыре языка, считая и язык Западного Рима.
- Буду счастлив таким знакомством, - сказал совершенно удовлетворенный мастер. Он еще больше оживился, когда ему указали на новую примечательную женщину.
Художник простился с патрикием и ушел. Он не видел, что ромей провожает его взглядом, полным холодного подозрения.
Императорские игрища продолжались еще неделю – необыкновенно долго на памяти греков эпохи заката: Желань была потрясена, изумлена, очарована. Показывали укротителей львов и тигров – великолепных хищников южных стран; показывали группы акробатов, которые составляли из своих тел немыслимые фигуры и гнулись во все стороны, точно змеи; показывали магов, глотающих огонь и протыкающих себя иглами и ножами без всякого вреда.
- Это обман! - сказала наконец Желань. - Они глаза отводят…
- Бывает, что и обман, - легко согласилась Метаксия, - но у нас есть и настоящие чудотворцы.
Желань горько улыбнулась.
- Когда придет срок, они вам главного чуда не сделают, - сказала она, - не спасут вас!
И тогда Метаксия сделалась серьезной, даже мрачной, как героини древних греческих трагедий, на которые женщин не допускали.
- Когда придет срок, славянка, нас не спасет ничто.
Тут она перекрестилась сама, в первый раз на глазах пленницы, - но этот жест не мог перечеркнуть глубинного, древнего ужаса, открывшегося в ее словах.
Потом Желань отказалась посещать игры, попросив своего господина через Метаксию. Она предпочла уединиться в комнатах за рукоделием, со своими новыми мыслями, которых появилось необыкновенно много, – и патрикий отнесся к ее желанию с большим сочувствием, чем она ожидала. Он опять перестал появляться в гинекее; бывал ли Фома Нотарас в цирке, Метаксия, конечно, знала, но ничего не говорила ей.
Желань очень смутилась и даже испугалась, когда в один из таких дней блаженного затворничества Фома Нотарас пришел к ней с незнакомым итальянцем – живописцем: человеком неслыханного на Руси занятия. Ей сказали, чего от нее хочет заморский гость, - а славянке представилось, что позволить себя нарисовать, точно кумира, еще хуже, чем сидеть в цирке на святых образах. Она бы отказалась, конечно, – но как может рабыня отказаться?
Ей пожелание господина растолковала Метаксия – и она же подобрала слова, которые убедили московитку.
- Соглашайся, это большая честь! Художники из Италии написали только трех благородных жен при дворе василевса, и все остались в восхищении! Неужели ты считаешь, что ты стоишь выше наших господ?
Крупный твердый рот гречанки усмехнулся, когда она увидела растерянность Желани.
- Тщеславие большой грех, Феодора!
Наложница улыбнулась, опустив глаза.
- Что пользы спорить? Вы все равно одолеете меня, - заметила она. – Но я соглашусь, пойду добром.
- Вот и прекрасно, - сказала Метаксия.
А потом вдруг заключила ее в объятия и поцеловала, точно равную.
- Ты чудо как хороша, особенно когда стыдишься! – воскликнула гречанка. – Я понимаю, почему итальянец пленился тобой, - и почему патрикий пленился тобой!
- Надолго ли так хороша, - сумрачно заметила Желань.
Она, однако, не пожалела: в первый раз Желань ушла от дворца далеко и смогла посмотреть Город своими глазами, а не глазами лукавой Метаксии. Их обеих в носилках – закрытых, но с откинутым пологом – отнесли в дом в Августейоне*, где жил прославленный итальяский мастер со своими учениками и слугами. Наряд для такого выхода, конечно, подобрала Метаксия: прислужница одела ее в греческое платье, но не древнее, без рукавов, а новое, глухое и с длинными рукавами. Темные волосы московитки перевили жемчугами и накинули на голову легкое шелковое покрывало; шею отяготило золотое с жемчугом ожерелье в несколько рядов. Она сейчас не уступала никакой знатной даме из свиты августы – и, однако, имела особенное лицо, и придала византийскому наряду особенные, русские краски.
Метаксия, сидевшая в носилках с нею – а вернее, полулежавшая, как будто ей привычно было так путешествовать, - первой выскользнула из носилок и потянула за собой московитку.
- Сюда, ничего не бойся, сестра, - приговаривала она. – Итальянец еще не видел таких прекрасных женщин, как ты! Пусть поглядит, какие цветы Московия принесла к святому престолу нашего василевса!
Желань застыдилась, разгневалась на такие слова – и остановилась опустив руки; но гречанка рассмеялась и поторопила ее, потянув за рукав. Она взяла славянку за руку и повела туда, куда обеих с приветливыми улыбками приглашали чернявые смуглые слуги, которые могли быть итальянцами, а могли – и греками, и турками. Их провели в белый дом за низкой изгородью, увитой виноградом; обеим пришлось нагнуться, когда они входили в дверь. В коридоре тускло горел единственный светильник, но из комнаты лился свет нескольких ламп или многих свечей.
Потом оттуда выступил улыбающийся хозяин.
- Прошу вас, пожалуйте сюда, синьоры, - поклонившись, пригласил он; хотя, конечно, знал, кто такая Желань. Не мог не знать.
Беллини пригласил славянку сесть в деревянное кресло у окна, в которое падали косые лучи солнца. Потом отступил, оглядывая ее, - а потом сам, суетясь, развернул кресло вместе с гостьей, хотя мог бы велеть ей встать.
Метаксия скромно села на подушку в стороне – но наблюдала за происходящим жадными глазами, не упускающими ни единого движения. Гречанка что-то сказала художнику по-итальянски – и тот, одарив ее быстрым взглядом черных глаз, кивнул. Переводить, поняла Желань, если станет совсем непонятно.
Но покамест ей было все понятно – взмахи рук итальянца, показывающие ей, как сесть, как повернуть голову, когда замереть, были выразительнее любых слов. Потом он совсем скрылся за своей подставкой, на которой стоял холст; потом явился его слуга, которого итальянец несколькими резкими словами за чем-то послал. Потом Желань перестала замечать, что творится вокруг нее, - и чувствовать себя…
Очнулась она, когда итальянец вышел из-за своего холста и шагнул к ней; московитка вздрогнула и выпрямилась. Она охнула, ощутив, как одеревенела шея.
И замерла в испуге, когда Беллини взял ее руку и поцеловал. На Руси такие знаки почитания мужчины не оказывали даже боярыням – непристойно… Вот пасть в ноги знатной госпоже – это настоящее смирение, служба.
Метаксия, которая только сейчас напомнила о себе, встала между ними и перевела слова мастера – сложив руки на груди и улыбаясь, как будто гордилась Желанью:
- Синьор Беллини благодарит тебя за терпение и твою красоту – его глаза сегодня устроили себе настоящий пир, любуясь тобою, а руки были счастливы работой, которую ты им задала.
Желань нахмурилась. Это прозвучало не только непристойно – но и так, как будто глаза итальянца смотрели и руки творили сами по себе, а душа о том не знала...
Она улыбнулась и поблагодарила. Метаксия перевела, потом выслушала ответ художника – нахмурившись, задумавшись на мгновение; потом кивнула и опять повернулась к славянке.
- Сейчас подадут угощение. Ты, должно быть, хочешь подкрепиться.
А когда мастер отвлекся, опять отойдя к своему холсту, Метаксия прошептала:
- Ничего здесь не ешь и не пей.
Желань в испуге подняла брови, прикрыла рот рукой – потом кивнула. Как она была глупа, что сама не подумала!
Когда принесли вино и фрукты, Метаксия что-то сказала хозяину и покачала головой. Итальянец сразу поскучнел, вдохновенные глаза потускнели. "Догадался! - подумала Желань. - Господи!"
Однако ничего ужасного не стряслось – Беллини молча проводил обеих женщин к выходу, и даже поклонился на прощанье.
Во дворе было уже темно, и Метаксия крепко схватила славянку за руку. – Проклятье! – пробормотала она сквозь зубы. Желань увидела, как сбоку проскользнули какие-то тени.
Гречанка бросила ее руку и вдруг быстрым движением выхватила что-то из длинного узкого рукава туники. Желань ахнула: в слабом свете месяца блеснул кинжал.
Славянка огляделась, тяжело дыша и прижав кулаки к груди; угрожающие тени скрылись.
Метаксия рассмеялась.
- Трусливые псы!
Они быстро пересекли двор и, отворив калитку, с радостью поспешили к ожидавшим их носилкам и охране. Забравшись внутрь, женщины припали друг к другу, переводя дух.
Когда их подняли и понесли, Желань прошептала, тронув Метаксию за локоть:
- Он ведь догадался!
- Немудрено, - презрительно отозвалась гречанка. – Эти католики только и делают у себя дома, что травят друг друга и опаивают всякими зельями! Он надеялся, что ты еще этого не знаешь!
- А кто был во дворе? – спросила рабыня.
- Может, слуги… наверное, слуги, - ответила Метаксия. – Не знаю, турки или нет, но остерегаться следует все равно.
Желань посмотрела на нее большими глазами и замолчала до конца пути.
Но когда они приехали и выбрались из носилок, она не удержалась и сказала горячие слова, которые так и рвались с языка:
- Ты такая смелая, такая умная… столько знаешь!
Она не могла больше таить свои мысли.
- Ты знатная госпожа, не иначе! А служишь мне уже так долго!
Метаксия улыбнулась; она склонила голову набок, насмешливо прищурив серые глаза – точь-в-точь как Фома Нотарас. Налетевший с моря ветер прибил ко лбу черные завитки волос.
- Бог велел нам всем служить друг другу, - сказала гречанка. – Теперь я есть то, что я есть.
Вот и поговори с такой! Желань замолчала со смешанным восхищением, неприязнью и страхом, как делала уже много раз.
Но когда они пришли в спальню, Желань спросила:
- Мы еще вернемся туда?
- Почему бы и нет? – сказала Метаксия. – Возьмем эскувитов*, пусть стерегут нас по пути и у дома!
Она прибавила, склонившись к московитке:
- Здесь тому, кто боится, лучше вообще не ступать за порог!
Желань кивнула. Это она давно уже знала – Царьград был велик как в добродетелях, так и в пороках: после былой славы погряз в беззаконии так же, как в разврате.
Портрет был окончен через три недели.
Желань не знала, что Метаксия сказала ее хозяину, но они продолжали ходить к итальянцу под надежной охраной эскувитов. Беллини теперь мало разговаривал с ними и больше не предлагал угощения – но Желани было не привыкать к враждебным иноземцам.
Когда же она увидела готовую картину, то была поражена больше, чем на ипподроме. На нее словно смотрела вторая Желань – нет: Феодора, какою желал ее видеть покровитель: темноглазая царевна, хранящая тайны русской и греческой земли.
Портрет повесили в спальне Феодоры, и господин долго с наслаждением любовался им. Он сказал, что Феодора может оставить себе платье и драгоценности, в которых ее писали.
Наложница поблагодарила, но очень устыдилась, когда ей напомнили о ее положении. Однако потом подумала, что весь гинекей и половина двора вместе с нею живет за счет императора и его патрикиев…
Спустя немного времени василевс устроил пир, на который были приглашены многие придворные женщины. Получила приглашение и Феодора, о которой во дворце ходило уже немало слухов. А она все это время жила спокойно, начав потихоньку, под руководством Метаксии, учиться писать и читать по-гречески…
Теперь хозяин не сомневался в ней: и ему особенно нравилась ее верность, какую трудно было найти среди гречанок. Феодора, однако, едва ли могла бы изменить ему, даже если бы и пожелала, - встречи с мужчинами были слишком редки; но самая мысль о таком вызывала у нее отвращение. Ей вообще нездоровилось в последние дни, даже не хотелось идти на торжество; но она перемогла себя.
Метаксия теперь особенно внимательно приглядывалась к славянке – и, конечно, пошла с нею.
В пиршественном зале они опустились на соседние ложа – Желань давно знала об этом обычае ромеев, лежать на пирах, и не удивлялась. Так ей сейчас было и лучше.
Праздник оказался таким же шумным и опасным, как и игры: так же гостей развлекали музыканты, танцоры, глотатели огня, гадатели; так же славословили императора; так же разносили угощения и вина. Но теперь оставаться трезвыми было не нужно – и вино лилось рекой. Слышался смех, крики; Феодора видела, что начались непристойности, тем паче, что все господа лежали. Ей уже хотелось уйти – но она не видела никого, кто мог бы проводить ее.
И тут славянка увидела, что к ней подобрался один изрядно опьяневший гость. Она хотела вскочить, убежать; но не успела, он схватил ее за руки и повалил на ложе. От страха Желань не могла даже закричать; только молча боролась с ним как могла, но грек был куда сильнее. Он стал задирать ее тунику. На бедрах и на груди у нее были повязки*, как она привыкла ходить постоянно, последовав примеру Метаксии – и потому, что так казалось безопасней; но сорвать их ничего не стоило.
Где ее господин? Где Метаксия?.. Ромей попытался зажать ей рот; и тогда Желань словно воспряла, укусила его пальцы и что было сил ударила коленом.
Насильник заорал, согнувшись пополам и кляня ее; но когда славянка попыталась отползти, он изловчился поймать ее за волосы. Желань рванулась - и свалилась на пол, пребольно ударившись животом и грудью; попыталась откатиться в сторону и наконец смогла позвать на помощь.
Она увидела, задыхаясь от страха и боли, как насильника кто-то поднял и отшвырнул, да так, что тот перелетел через два ложа с бесчувственными гостями. Прибежал ее хозяин! Потом Фома бросился к ней, с искаженным от гнева и страха лицом; спросил что-то, и Феодора замотала головой. Нет, ее не обесчестили. Она одернула платье – и тут почувствовала, как у нее резко и больно сжалось в животе; вскрикнув от стыда, Феодора обхватила руками колени. А потом она ощутила кровотечение.
У ее господина вырвался стон ужаса; кто-то вскрикнул рядом – Метаксия. Потом Фома Нотарас поднял ее. Феодора обняла его за шею, но руки не держали.
Метаксия пощупала ей лоб. – Она горит как в аду! – воскликнула гречанка.
"Где ты была?.." - подумала Феодора.
В животе было пусто, тяжко; и так же пусто, тяжко было на душе. Господин бегом понес ее в спальню. Кровь текла и текла; он окутал наложницу своей одеждой.
Потом ее уложили в постель, Феодора закрыла глаза – и ее наконец все отпустило; и ей больше не нужно было держаться.
Она уже не понимала, когда и чьими усилиями остановилась кровь, - только осознала, что Фома Нотарас целует ей руку и плачет. Рабыня попыталась усмехнуться.
- Бог управил, - прошептала Желань. Потом отвернулась к стене и впала в забытье.
* Возлюбленная (ит.).
* Главный форум Константинополя, на который выходил Большой императорский дворец.
* Воины дворцовой стражи в Византии.
* Уже в античной Греции и Риме женщины носили прототип бюстгальтера – повязку, поддерживающую грудь.
Re: Ставрос
первая же строчка
"глоток" я бы еще понял, но крики из грудей? Хотя если это фантастика, и речевой аппарат у местных жителей находится в грудях, то конечно да
Хотя если это фантастика, и речевой аппарат у местных жителей находится в грудях, то конечно да 
Крики гребцов-каторжников – возгласы мучительной натуги, вырывавшиеся разом из десятков грудей
"глоток" я бы еще понял, но крики из грудей?
El sueño de la razón produce monstruos ( исп. «Сон разума рождает чудовищ»)
Re: Ставрос
Disciple писал(а):первая же строчкаКрики гребцов-каторжников – возгласы мучительной натуги, вырывавшиеся разом из десятков грудей
"глоток" я бы еще понял, но крики из грудей?Хотя если это фантастика, и речевой аппарат у местных жителей находится в грудях, то конечно да
[spoiler=]А мну порадовал * Главный форум Константинополя, на который выходил Большой императорский дворец. Всем дворцом - на форум! Флудить и жечь глаголом!
Пишутся похождения дикой орхидеи ярко и красочно. Неплохо в общем.
Доктор, но не врач.
Предупреждён - значит Вооружён!
Можно на "ты". Отвечаю взаимностью.
Предупреждён - значит Вооружён!
Можно на "ты". Отвечаю взаимностью.
Re: Ставрос
"глоток" я бы еще понял, но крики из грудей?Хотя если это фантастика, и речевой аппарат у местных жителей находится в грудях, то конечно да
Это метафора.
Кроме того, думаю, что метафора эта возникла тогда, когда функция органов речи/дыхания не была известна широкому большинству: так же, как говорят, что "в сердце вспыхнула любовь" - хотя вспыхивает она в мозгу.
Пишутся похождения дикой орхидеи ярко и красочно. Неплохо в общем.
Обижаете - это не "похождения дикой орхидеи", а "наши там". )
Спасибо.
Re: Ставрос
Эрин, я о метафоре в курсе, но в данном контексте, она заиграла новыми красками 
El sueño de la razón produce monstruos ( исп. «Сон разума рождает чудовищ»)
Re: Ставрос
Disciple писал(а):Эрин, я о метафоре в курсе, но в данном контексте, она заиграла новыми красками
А как вам классика; "В лесу раздавался топор дровосека"? Куда, кому, забесплатно?
Так што не придирайтесь к любителям.

Доктор, но не врач.
Предупреждён - значит Вооружён!
Можно на "ты". Отвечаю взаимностью.
Предупреждён - значит Вооружён!
Можно на "ты". Отвечаю взаимностью.
Re: Ставрос
Глава 7
Патрикий сидел с нею, должно быть, еще долго – открыв глаза снова, Феодора увидела его у своего ложа; глаза ее господина окружили тени усталости. Он улыбался ей с нежностью и горечью – а Феодора вдруг похолодела, поняв, что во сне могла звать, кликать тех, кого никогда не поминала при нем. Фома Нотарас еще ни разу не оставался у нее, когда она спала.
Увидев, что наложница смотрит на него, он вздохнул и опять поцеловал ей руку.
- Какое счастье, что ты жива, - сказал он. – Немало женщин умирают, когда теряют ребенка.
Желань улыбнулась, и в улыбке была спокойная ненависть, с которой она не могла совладать.
- Ты знал много таких женщин?
Он кивнул: да.
Потом встал и поцеловал ее в лоб; потом в обе щеки. Затем перекрестил.
- Лежи. Метаксия будет при тебе. Мне нужно…
Серые глаза патрикия обратились куда-то поверх лежащей рабыни, на что-то, ей недоступное.
- Я позабочусь, чтобы этого варвара примерно наказали. Он больше никогда не подберется к тебе.
Феодора не знала - и боялась спросить, кто напал на нее и чем это теперь обернется для них всех; но уже понимала, что вокруг нее поднялся шум, которого не стоит рабыня. Но она никогда не забывала, кто она есть, и не позволяла ромеям это в себе затоптать…
Фома хотел уйти, но она окликнула его, остановила. Белокурый патрикий обернулся в изумлении.
- Метаксия – она ведь большая госпожа, - проговорила Желань. – Что с ней случилось, почему она теперь в таком положении, потерялась в гинекее? И почему никто при дворе не удивляется этому?
По лицу патрикия прошла тень. Он устремил на больную взгляд, полный неприкрытой угрозы.
- Если ты обмолвишься о ней лишний раз…
- С чужими? – приподнявшись, спросила славянка. Голос ее окреп, глаза блеснули. – Мой господин знает, каковы русы! Мы не предаем своих!
Он кивнул.
- Своих… да…
После долгого молчания патрикий улыбнулся.
- Можешь спросить об этом саму Метаксию.
Ромей вышел, а Феодора осталась лежать, слишком усталая, опустошенная для каких-нибудь новых мыслей.
Своих! Разве не враги ей все кругом – считая и ее любовника? Господи, вернуться бы домой…
Но она не узнает отчего дома, даже если и случится такое чудо, - и ей никогда уже не быть той, что была прежде. Как Микитке.
Вошла Метаксия, опустив глаза; она несла букет благоухающих белых роз. Поставила его в вазу на столике у ложа – и сама села рядом. Не улыбнулась.
Гречанка казалась почти такой же усталой, как сама Феодора.
- Не спишь? – спросила она, тронув лоб пленницы. – Не спится?
Феодора покачала головой.
- Ты полюбила его? – вдруг спросила Метаксия.
Феодора растерялась; она не ждала такого вопроса и не знала, как на него ответить.
- Не полюби его слишком, - предостерегла ее Метаксия. – Тебе будет плохо и ему тоже. Мы, женщины… мы должны быть умны, даже когда мужчины глупеют.
Она подняла глаза на славянку.
- А женщинам, приближенным к престолу, следует быть вдвое умнее обыкновенных. Мы не можем позволить себе следовать сердцу безоглядно, как простонародье и рабы.
- Рабы – это говорящие вещи… - прошептала Желань латинское изречение. Но славянка понимала, что это сказано не о таких, как она.
- Это только слова, - заметила Метаксия, внимательно глядя на нее. – И за ними кроется большая власть. Владыки мира всегда знали, чего стоит подходящий раб в подходящее время.
Феодора взяла из вазы белую розу и стала крутить в пальцах, вдыхая ее аромат.
- Ты… высокая жена, и это не скрыть, - сказала она. – Почему… никто не удивляется тому, что ты здесь, при мне?
- Этого не скрыть от тех, кто внимательно смотрит, - а люди невнимательны к женщинам, - ответила Метаксия. – И от тех, кто видит нас с тобой во всякий час дня… а сейчас нас видит только Господь.
Она погладила больную по щеке.
- Мне тебя очень жалко… - вдруг прошептала гречанка. – Ты никогда не станешь такой, как мы, даже если будет очень нужно. В этом слабость русов.
- А я жалею вас, - серьезно ответила Желань.
Метаксия рассмеялась.
- Ваше счастье – счастье варваров, - сказала она. – Я предпочитаю пить наше горькое вино. И если Бог когда-нибудь и в самом деле воздаст нам по деяниям – я скажу: вот здесь, Господи, был Твой храм, вот здесь стояло Твое царствие на земле - и не Твоя ли вина, что оно не устояло?
Она покачала головой. Взяла из вазы другую розу и поднесла к лицу.
- Но я не верю, что будет так.
- Тебе нужно помолиться, - почти испуганно сказала Желань. – Ты говоришь так, точно умерла раньше своей смерти!
- Бедное дитя, - сказала гречанка, и Желань не могла понять: то ли Метаксия говорит о ее нерожденном ребенке, ио ли о ней самой.
- Кто ты? – спросила она. – Кто ты была раньше?
Метаксия помедлила.
- Я из старинного и некогда славного семейства – мое родовое имя Калокир, - сказала она. – Но это не так важно для моей судьбы, как то, что я была опоясанной патрикией* в дни последней жены Иоанна. Теперь императрицы больше нет, и власть в гинекее утратила свой священный венец. Теперь женщины двора отодвинуты в тень... и из тени выходят те, кто этого вовсе не заслуживает.
Феодора кивнула. Она про себя понимала, быть может, намного больше, чем могла бы высказать словами… и понимала, что попала в Большой дворец в счастливое время. Иначе, наверное, давно уже лежала бы в могиле, запоротая или замученная мужчинами до смерти, – или принадлежала бы какому-нибудь грубому скоту.
Метаксия погладила ее своей розой по щеке.
- Береги его, как он тебя, - прошептала она. – Ведь ты понимаешь, что все это было не просто так.
- А кто… Кто напал на меня? – воскликнула Феодора.
Ее словно окатило ледяной водой.
- Кто напал – уже неважно, не позднее, чем завтра, он будет прикован цепями к дромону или хеландии*, - безразлично сказала гречанка. – Но вот кто хотел сразить этим Нотараса…
Феодора закрыла лицо руками.
- Мне страшно!
- Можешь показывать это мне, но не показывай никому другому, - ответила Метаксия. – Но ты сейчас будешь сидеть взаперти и поправляться… Как нам всем теперь…
Она посмотрела на портрет московитки – эта цветущая женщина так отличалась от той, что лежала перед ней.
И вдруг сказала слова, от которых у Феодоры кровь застыла в жилах:
- Император Иоанн стар.
Феодора перекрестилась, но Метаксия осталась совершенно спокойной. Она наклонилась и поцеловала больную в лоб.
- Постарайся уснуть.
Она встала и покинула спальню, оставив за собою легкий запах восточных притираний и благоухание роз, наполнившее комнату: от избытка непрошеной сладости у Желани разболелась голова. Она тихо заплакала, жалуясь разве что Богу, который один только и мог сейчас ее видеть.
На другое утро патрикий пришел к ней и сел рядом, погладив по голове.
- Мы скоро уедем, - вдруг сказал он, - уедем в мое имение.
Рабыня ожидала чего угодно, кроме этого. Она беспомощно посмотрела на Фому Нотараса, не посмев ничего спросить о насильнике.
Ее хозяин улыбался, но взгляд был далеко – и не таил ничего хорошего.
- А мы еще вернемся? – спросила славянка, подумав о том, что покинет Город, о котором наслышан весь мир, ради мест, в которых она совсем затеряется. О прочем думать было слишком страшно.
Фома невесело рассмеялся.
- А тебе хочется?
Он коснулся ее губ цветком, который вынул из вазы, - роза уже начала увядать. Потом поцеловал наложницу в губы.
- Надеюсь, что вернемся, Феодора.
* Высокое придворное звание, дающее право на свободный вход во дворец.
* Тяжелый византийский боевой и транспортный корабль, вмещавший сотню гребцов и двести-триста человек.
Патрикий сидел с нею, должно быть, еще долго – открыв глаза снова, Феодора увидела его у своего ложа; глаза ее господина окружили тени усталости. Он улыбался ей с нежностью и горечью – а Феодора вдруг похолодела, поняв, что во сне могла звать, кликать тех, кого никогда не поминала при нем. Фома Нотарас еще ни разу не оставался у нее, когда она спала.
Увидев, что наложница смотрит на него, он вздохнул и опять поцеловал ей руку.
- Какое счастье, что ты жива, - сказал он. – Немало женщин умирают, когда теряют ребенка.
Желань улыбнулась, и в улыбке была спокойная ненависть, с которой она не могла совладать.
- Ты знал много таких женщин?
Он кивнул: да.
Потом встал и поцеловал ее в лоб; потом в обе щеки. Затем перекрестил.
- Лежи. Метаксия будет при тебе. Мне нужно…
Серые глаза патрикия обратились куда-то поверх лежащей рабыни, на что-то, ей недоступное.
- Я позабочусь, чтобы этого варвара примерно наказали. Он больше никогда не подберется к тебе.
Феодора не знала - и боялась спросить, кто напал на нее и чем это теперь обернется для них всех; но уже понимала, что вокруг нее поднялся шум, которого не стоит рабыня. Но она никогда не забывала, кто она есть, и не позволяла ромеям это в себе затоптать…
Фома хотел уйти, но она окликнула его, остановила. Белокурый патрикий обернулся в изумлении.
- Метаксия – она ведь большая госпожа, - проговорила Желань. – Что с ней случилось, почему она теперь в таком положении, потерялась в гинекее? И почему никто при дворе не удивляется этому?
По лицу патрикия прошла тень. Он устремил на больную взгляд, полный неприкрытой угрозы.
- Если ты обмолвишься о ней лишний раз…
- С чужими? – приподнявшись, спросила славянка. Голос ее окреп, глаза блеснули. – Мой господин знает, каковы русы! Мы не предаем своих!
Он кивнул.
- Своих… да…
После долгого молчания патрикий улыбнулся.
- Можешь спросить об этом саму Метаксию.
Ромей вышел, а Феодора осталась лежать, слишком усталая, опустошенная для каких-нибудь новых мыслей.
Своих! Разве не враги ей все кругом – считая и ее любовника? Господи, вернуться бы домой…
Но она не узнает отчего дома, даже если и случится такое чудо, - и ей никогда уже не быть той, что была прежде. Как Микитке.
Вошла Метаксия, опустив глаза; она несла букет благоухающих белых роз. Поставила его в вазу на столике у ложа – и сама села рядом. Не улыбнулась.
Гречанка казалась почти такой же усталой, как сама Феодора.
- Не спишь? – спросила она, тронув лоб пленницы. – Не спится?
Феодора покачала головой.
- Ты полюбила его? – вдруг спросила Метаксия.
Феодора растерялась; она не ждала такого вопроса и не знала, как на него ответить.
- Не полюби его слишком, - предостерегла ее Метаксия. – Тебе будет плохо и ему тоже. Мы, женщины… мы должны быть умны, даже когда мужчины глупеют.
Она подняла глаза на славянку.
- А женщинам, приближенным к престолу, следует быть вдвое умнее обыкновенных. Мы не можем позволить себе следовать сердцу безоглядно, как простонародье и рабы.
- Рабы – это говорящие вещи… - прошептала Желань латинское изречение. Но славянка понимала, что это сказано не о таких, как она.
- Это только слова, - заметила Метаксия, внимательно глядя на нее. – И за ними кроется большая власть. Владыки мира всегда знали, чего стоит подходящий раб в подходящее время.
Феодора взяла из вазы белую розу и стала крутить в пальцах, вдыхая ее аромат.
- Ты… высокая жена, и это не скрыть, - сказала она. – Почему… никто не удивляется тому, что ты здесь, при мне?
- Этого не скрыть от тех, кто внимательно смотрит, - а люди невнимательны к женщинам, - ответила Метаксия. – И от тех, кто видит нас с тобой во всякий час дня… а сейчас нас видит только Господь.
Она погладила больную по щеке.
- Мне тебя очень жалко… - вдруг прошептала гречанка. – Ты никогда не станешь такой, как мы, даже если будет очень нужно. В этом слабость русов.
- А я жалею вас, - серьезно ответила Желань.
Метаксия рассмеялась.
- Ваше счастье – счастье варваров, - сказала она. – Я предпочитаю пить наше горькое вино. И если Бог когда-нибудь и в самом деле воздаст нам по деяниям – я скажу: вот здесь, Господи, был Твой храм, вот здесь стояло Твое царствие на земле - и не Твоя ли вина, что оно не устояло?
Она покачала головой. Взяла из вазы другую розу и поднесла к лицу.
- Но я не верю, что будет так.
- Тебе нужно помолиться, - почти испуганно сказала Желань. – Ты говоришь так, точно умерла раньше своей смерти!
- Бедное дитя, - сказала гречанка, и Желань не могла понять: то ли Метаксия говорит о ее нерожденном ребенке, ио ли о ней самой.
- Кто ты? – спросила она. – Кто ты была раньше?
Метаксия помедлила.
- Я из старинного и некогда славного семейства – мое родовое имя Калокир, - сказала она. – Но это не так важно для моей судьбы, как то, что я была опоясанной патрикией* в дни последней жены Иоанна. Теперь императрицы больше нет, и власть в гинекее утратила свой священный венец. Теперь женщины двора отодвинуты в тень... и из тени выходят те, кто этого вовсе не заслуживает.
Феодора кивнула. Она про себя понимала, быть может, намного больше, чем могла бы высказать словами… и понимала, что попала в Большой дворец в счастливое время. Иначе, наверное, давно уже лежала бы в могиле, запоротая или замученная мужчинами до смерти, – или принадлежала бы какому-нибудь грубому скоту.
Метаксия погладила ее своей розой по щеке.
- Береги его, как он тебя, - прошептала она. – Ведь ты понимаешь, что все это было не просто так.
- А кто… Кто напал на меня? – воскликнула Феодора.
Ее словно окатило ледяной водой.
- Кто напал – уже неважно, не позднее, чем завтра, он будет прикован цепями к дромону или хеландии*, - безразлично сказала гречанка. – Но вот кто хотел сразить этим Нотараса…
Феодора закрыла лицо руками.
- Мне страшно!
- Можешь показывать это мне, но не показывай никому другому, - ответила Метаксия. – Но ты сейчас будешь сидеть взаперти и поправляться… Как нам всем теперь…
Она посмотрела на портрет московитки – эта цветущая женщина так отличалась от той, что лежала перед ней.
И вдруг сказала слова, от которых у Феодоры кровь застыла в жилах:
- Император Иоанн стар.
Феодора перекрестилась, но Метаксия осталась совершенно спокойной. Она наклонилась и поцеловала больную в лоб.
- Постарайся уснуть.
Она встала и покинула спальню, оставив за собою легкий запах восточных притираний и благоухание роз, наполнившее комнату: от избытка непрошеной сладости у Желани разболелась голова. Она тихо заплакала, жалуясь разве что Богу, который один только и мог сейчас ее видеть.
На другое утро патрикий пришел к ней и сел рядом, погладив по голове.
- Мы скоро уедем, - вдруг сказал он, - уедем в мое имение.
Рабыня ожидала чего угодно, кроме этого. Она беспомощно посмотрела на Фому Нотараса, не посмев ничего спросить о насильнике.
Ее хозяин улыбался, но взгляд был далеко – и не таил ничего хорошего.
- А мы еще вернемся? – спросила славянка, подумав о том, что покинет Город, о котором наслышан весь мир, ради мест, в которых она совсем затеряется. О прочем думать было слишком страшно.
Фома невесело рассмеялся.
- А тебе хочется?
Он коснулся ее губ цветком, который вынул из вазы, - роза уже начала увядать. Потом поцеловал наложницу в губы.
- Надеюсь, что вернемся, Феодора.
* Высокое придворное звание, дающее право на свободный вход во дворец.
* Тяжелый византийский боевой и транспортный корабль, вмещавший сотню гребцов и двести-триста человек.
Re: Ставрос
Глава 8
Феодора пролежала в постели еще неделю – хотела встать раньше, почувствовав силы, но Метаксия остановила ее, сказав, что кровотечение может открыться снова. Она, должно быть, как и Нотарас, повидала немало таких больных – а кое-кому наверняка помогала и вытравить плод…
Девушка из Руси вспоминала теперь разговоры, слышанные в тереме, которые она тогда, по невинности своей, не могла осмыслить. Теперь она понимала, что терем немало подобен гинекею: полон такой же тайной, страстной и греховной жизни, заключенной в четырех стенах.
Московиты были куда больше похожи на греков, чем ей хотелось думать.
Господин несколько раз приходил к ней, справлялся о ее здоровье, но был как-то отвлеченно нежен – не так, как в часы страсти; хотя и тогда он не показывал ей себя, как будто берегся своей рабыни. Сейчас же Фома Нотарас точно запретил себе открываться славянке и сближаться с нею более – до тех пор, пока за ними следит столько враждебных глаз. Это было место, где каждый остерегался каждого, как будто самый воздух Большого дворца внушал такие мысли.
- Много императоров погибло здесь… Их убивали восставшие, и они сами убивали друг друга, - сказала московитке Метаксия, хотя та вовсе ее не спрашивала и не желала сейчас слышать кровавую историю царей ромеев. Но, должно быть, самой гречанке хотелось поделиться – а больше было не с кем. Феодора начала чувствовать себя сосудом, в который ромеи сливают избыток страстей, - вроде тех драгоценных ваз, в которые они облегчались во время пирушек.
Однако всем приходится терпеть – и всем людям приходится немало терпеть друг друга, рабы они или господа.
Но Феодора даже в болезни не чувствовала себя забытой, что бы это ни значило, - господин присылал ей маленькие подарки: букет фиалок, ножной браслет, а однажды даже свиток с древними греческими стихами, которые рабыня до сих пор только слышала. Их читала ей наизусть Метаксия, восторженно блестя глазами, воздев руки, точно священнодействуя. Феодора мало понимала тогда, но знала, что для Метаксии это мгновения истинного счастья – как для нее самой было бы вновь увидеть родные поля и рощи.
Но Метаксии некуда вернуться...
Теперь же они разбирали письмена вместе, вместе слушали музыку языческого эллинского прошлого, которая отзвучала давным-давно. Метаксия хвалила прилежание и понятливость московитки.
- Ты могла бы стать философом, если бы прошла хорошую школу, - сказала она. – Но женщин-философов не признают.
Желань давно поняла, что Метаксия привязалась к ней, как и хозяин; хотя и по-своему – как женщина, которой больше не на кого направить свою страсть.
- У тебя есть муж и дети, госпожа? – тихо спросила славянка.
- Нет, - спокойно ответила Метаксия.
Феодоре следовало бы спросить: были ли у нее муж и дети. Но она никогда бы не осмелилась задать такой вопрос.
- Я сожалею, что ты одинока, - тихо сказала славянка, надеясь хоть таким путем выведать что-нибудь.
- Это не так уж и печально, - ответила Метаксия. – Теперь я госпожа сама себе, полная хозяйка своего имения и имения моего покойного мужа.
Желань взглянула в лицо гречанки; и увидела, что та улыбается. Ее мысли были для Метаксии как открытая книга.
- У тебя нет подруг? – вдруг, неожиданно для самой себя, спросила славянка.
- Простой женщине подруги не нужны – она закрепощена дома, - ответила Метаксия. – Для знатной же они опасны.
Желань поежилась. Конечно, она знала, что и на Руси у жен бывает слишком много забот, чтобы иметь еще и подруг; но так, как эта гречанка, никто из них не говорил.
Она взяла руку Метаксии и пожала; та пожала ее пальцы в ответ.
Когда же настало время уезжать, Феодора с удивлением осознала, что не считала дней – как будто, занимаясь с Метаксией, совершенно забыла, что все это только игра, только… прикрытие. Настоящая же жизнь начиналась тогда, когда Метаксия выходила от нее и говорила с мужчинами о делах, о которых пленнице было боязно даже подумать.
Она, Желань, была для опоясанной патрикии таким же развлечением и отдохновением, как и для своего любовника.
Хозяин сам пришел за славянкой и вывел ее из гинекея – а Желань подумала, что могла бы и не дожить до этой минуты. Но Фома Нотарас был спокоен и ласков, как будто все шло как должно. Наверное, тот, кто попытался обесчестить ее следом за патрикием, первым присвоившим себе такое право, уже ломал спину на дромоне. Неужели же вся военная сила ромеев такова – сильна рабским трудом?
Конечно: как и все их процветание…
Желань очень удивилась, когда увидела около крытой повозки, в которой они должны были отправиться в путь, еще и Метаксию. Ей представлялось, что заговор, который вызревал в Большом дворце, - если этот заговор и вправду существовал, - означал, что Метаксия останется…
- Ты поедешь с нами? – воскликнула пленница.
Гречанка кивнула, наслаждаясь ее изумлением.
- Мы с Нотарасом соседи, - сказала она. – Земли наших отцов расположены рядом, в Морее*. Я тоже покидаю Константинополь, и буду ехать с вами почти всю дорогу.
Метаксия увидела, как Желани неприятно это узнать, - и, улыбаясь, прибавила:
- Вместе ехать и безопасней.
Вокруг них уже собрались конные этериоты*, которые должны были сопровождать патрикиев в дороге, полной неожиданностей: особенно в такое время.
А Желань одернула себя: что она себе вообразила! Ревновать знатного господина, своего хозяина: совсем ума лишилась!
Когда господин подошел ее поцеловать, Феодора была холодна.
- Что случилось? – встревожился он. – Тебе еще нездоровится?
- Нет, господин, - холодно ответила славянка. – Слава богу, я здорова.
Патрикий посмотрел на Метаксию – и вдруг Феодоре показалось, что он на миг ощутил такую же неприязнь к ней, как и она сама; хотя эти двое, несомненно, договорились о путешествии заранее.
Однако Фома Нотарас больше ничем не выказал своего недовольства. Учтиво поклонившись патрикии, он поцеловал ей руку и подсадил в отдельную повозку. Увидев это, Желань улыбнулась.
Потом хозяин таким же образом подсадил в повозку и ее; следом сел сам и приказал трогать. Господа со слугами и охраной двинулись прочь от Большого дворца – к Августейону, чтобы дальше проследовать по Месе, главной улице Города, делившей его пополам.
Феодора огляделась. Все ее вещи были здесь – все, кроме ее старого русского платья: подарки хозяина, плата за блуд… или за любовь?
Она не хотела, не могла это разбирать.
- Иди сюда, - негромко, но властно позвал ромей. Феодора послушно придвинулась ближе, и он обнял ее, так что голова славянки прижалась к его груди.
- Я тосковал по тебе, - тихо сказал он, перебирая ее пальцы. Желань беспокойно пошевелилась, обернулась на него; но Фома Нотарас просто сидел, глядя в никуда, прижимая ее к себе.
С минуту она слушала цоканье копыт по мощеной дороге – и вдруг, встрепенувшись, воскликнула:
- Постой! Пожалуйста!
- Что такое? – изумился ее хозяин.
Феодора сложила руки.
- Я хочу помолиться. Я хочу пойти в ваш великий храм, Святую Софию, - быть может, я никогда больше ее не увижу!
Фома Нотарас посмотрел на нее так, как его языческий предок взглянул бы на свою говорящую вещь, которая вдруг заявила бы, что хочет пойти помолиться в храм за какую-то свою душу.
Однако потом благородный патрикий терпеливо улыбнулся, в глазах же зажглось удовольствие. Ему было приятно, что его женщина из Московии чтит величайшую святыню Константинополя.
- Хорошо, - сказал грек. – Пойдем помолимся вместе.
Он выглянул в окно, отвернув занавешивавший его ковер, - потом замолчал на некоторое время. Потом крикнул вознице остановиться.
Они выбрались из повозки, и Желань на миг испугалась, что хозяин позовет и Метаксию. Он и в самом деле позвал. Но та отказалась идти.
Стыдно идти вместе с рабыней туда, где их увидят все, - не хочется возбуждать толки?
Феодора заставила себя отбросить эти мысли; когда же они вошли в собор, она забыла и себя, и даже того, кто ее сопровождал. Приоткрыв рот и откинув голову, так что шелковое покрывало свалилось на плечи, славянка созерцала святых, которые словно парили под куполом Софии; потом обозрела мозаичные картины и фрески, во все стены, трепетавшие в свете сотен свечей, смешивавшемся со светом, лившимся из окон; казалось, изображенные вот-вот сойдут со своих стен – или молящиеся воспарят ввысь, к Господу...
- В Большом дворце есть галерея императоров и их семей, тоже прекрасные мозаичные картины, - коснувшись ее плеча, проговорил у нее над ухом хозяин. – Но с Софией им не сравниться.
Феодора вздрогнула: на миг ей представилась галерея императоров, в которой убийцы идут перед убитыми, наследуют им. Но София была слишком прекрасна, чтобы задумываться об этом.
- Какого святого ты чтишь? – заботливо спросил ее господин. – Кому хочешь поклониться?
Феодора не знала – она никогда не разбирала этого; ее желания и чувства дома, в сравнении с теперешними, были как домашняя часовня, часовня боярыни, рядом с цареградским собором.
Феодора просто стала на колени и положила земной поклон, почтив сразу все это великолепие. Патрикий класть поклонов не стал, но опустился на колени и долго молился шепотом, отрешившись от всего.
Потом он встал, перекрестился, взял наложницу за руку и повел прочь. Они молча забрались в повозку – и вереница двинулась дальше.
Некоторое время господин и рабыня ехали в молчании – опять прижались друг к другу, но ничего не говорили. Потом Феодора прислушалась к перестуку копыт и колес, следовавшему за ними.
- Господин, разреши мне спросить, - тихо сказала она.
Фома открыл глаза – казалось, он задремал; но милостиво кивнул.
- Говори!
- Госпожа Метаксия – она похожа на тебя. У нее точно такие же серые глаза, и смотрите вы… Она не родственница тебе? – с осторожностью спросила славянка.
- Родственница, - ответил ромей. – Дочь моей тетки, двоюродная сестра. Многие благородные семьи в родстве между собой, - прибавил он.
Тут Желань припомнила слова патрикии, о хорошем любовнике, - и только покачала головой. Фома Нотарас посмотрел на ее серьезное бледное лицо – и, улыбнувшись, отвернулся.
* Морея — средневековое название полуострова Пелопоннес, одного из основных очагов греческой цивилизации и одного из последних оплотов гибнущей Византийской империи.
* Императорская гвардия.
Феодора пролежала в постели еще неделю – хотела встать раньше, почувствовав силы, но Метаксия остановила ее, сказав, что кровотечение может открыться снова. Она, должно быть, как и Нотарас, повидала немало таких больных – а кое-кому наверняка помогала и вытравить плод…
Девушка из Руси вспоминала теперь разговоры, слышанные в тереме, которые она тогда, по невинности своей, не могла осмыслить. Теперь она понимала, что терем немало подобен гинекею: полон такой же тайной, страстной и греховной жизни, заключенной в четырех стенах.
Московиты были куда больше похожи на греков, чем ей хотелось думать.
Господин несколько раз приходил к ней, справлялся о ее здоровье, но был как-то отвлеченно нежен – не так, как в часы страсти; хотя и тогда он не показывал ей себя, как будто берегся своей рабыни. Сейчас же Фома Нотарас точно запретил себе открываться славянке и сближаться с нею более – до тех пор, пока за ними следит столько враждебных глаз. Это было место, где каждый остерегался каждого, как будто самый воздух Большого дворца внушал такие мысли.
- Много императоров погибло здесь… Их убивали восставшие, и они сами убивали друг друга, - сказала московитке Метаксия, хотя та вовсе ее не спрашивала и не желала сейчас слышать кровавую историю царей ромеев. Но, должно быть, самой гречанке хотелось поделиться – а больше было не с кем. Феодора начала чувствовать себя сосудом, в который ромеи сливают избыток страстей, - вроде тех драгоценных ваз, в которые они облегчались во время пирушек.
Однако всем приходится терпеть – и всем людям приходится немало терпеть друг друга, рабы они или господа.
Но Феодора даже в болезни не чувствовала себя забытой, что бы это ни значило, - господин присылал ей маленькие подарки: букет фиалок, ножной браслет, а однажды даже свиток с древними греческими стихами, которые рабыня до сих пор только слышала. Их читала ей наизусть Метаксия, восторженно блестя глазами, воздев руки, точно священнодействуя. Феодора мало понимала тогда, но знала, что для Метаксии это мгновения истинного счастья – как для нее самой было бы вновь увидеть родные поля и рощи.
Но Метаксии некуда вернуться...
Теперь же они разбирали письмена вместе, вместе слушали музыку языческого эллинского прошлого, которая отзвучала давным-давно. Метаксия хвалила прилежание и понятливость московитки.
- Ты могла бы стать философом, если бы прошла хорошую школу, - сказала она. – Но женщин-философов не признают.
Желань давно поняла, что Метаксия привязалась к ней, как и хозяин; хотя и по-своему – как женщина, которой больше не на кого направить свою страсть.
- У тебя есть муж и дети, госпожа? – тихо спросила славянка.
- Нет, - спокойно ответила Метаксия.
Феодоре следовало бы спросить: были ли у нее муж и дети. Но она никогда бы не осмелилась задать такой вопрос.
- Я сожалею, что ты одинока, - тихо сказала славянка, надеясь хоть таким путем выведать что-нибудь.
- Это не так уж и печально, - ответила Метаксия. – Теперь я госпожа сама себе, полная хозяйка своего имения и имения моего покойного мужа.
Желань взглянула в лицо гречанки; и увидела, что та улыбается. Ее мысли были для Метаксии как открытая книга.
- У тебя нет подруг? – вдруг, неожиданно для самой себя, спросила славянка.
- Простой женщине подруги не нужны – она закрепощена дома, - ответила Метаксия. – Для знатной же они опасны.
Желань поежилась. Конечно, она знала, что и на Руси у жен бывает слишком много забот, чтобы иметь еще и подруг; но так, как эта гречанка, никто из них не говорил.
Она взяла руку Метаксии и пожала; та пожала ее пальцы в ответ.
Когда же настало время уезжать, Феодора с удивлением осознала, что не считала дней – как будто, занимаясь с Метаксией, совершенно забыла, что все это только игра, только… прикрытие. Настоящая же жизнь начиналась тогда, когда Метаксия выходила от нее и говорила с мужчинами о делах, о которых пленнице было боязно даже подумать.
Она, Желань, была для опоясанной патрикии таким же развлечением и отдохновением, как и для своего любовника.
Хозяин сам пришел за славянкой и вывел ее из гинекея – а Желань подумала, что могла бы и не дожить до этой минуты. Но Фома Нотарас был спокоен и ласков, как будто все шло как должно. Наверное, тот, кто попытался обесчестить ее следом за патрикием, первым присвоившим себе такое право, уже ломал спину на дромоне. Неужели же вся военная сила ромеев такова – сильна рабским трудом?
Конечно: как и все их процветание…
Желань очень удивилась, когда увидела около крытой повозки, в которой они должны были отправиться в путь, еще и Метаксию. Ей представлялось, что заговор, который вызревал в Большом дворце, - если этот заговор и вправду существовал, - означал, что Метаксия останется…
- Ты поедешь с нами? – воскликнула пленница.
Гречанка кивнула, наслаждаясь ее изумлением.
- Мы с Нотарасом соседи, - сказала она. – Земли наших отцов расположены рядом, в Морее*. Я тоже покидаю Константинополь, и буду ехать с вами почти всю дорогу.
Метаксия увидела, как Желани неприятно это узнать, - и, улыбаясь, прибавила:
- Вместе ехать и безопасней.
Вокруг них уже собрались конные этериоты*, которые должны были сопровождать патрикиев в дороге, полной неожиданностей: особенно в такое время.
А Желань одернула себя: что она себе вообразила! Ревновать знатного господина, своего хозяина: совсем ума лишилась!
Когда господин подошел ее поцеловать, Феодора была холодна.
- Что случилось? – встревожился он. – Тебе еще нездоровится?
- Нет, господин, - холодно ответила славянка. – Слава богу, я здорова.
Патрикий посмотрел на Метаксию – и вдруг Феодоре показалось, что он на миг ощутил такую же неприязнь к ней, как и она сама; хотя эти двое, несомненно, договорились о путешествии заранее.
Однако Фома Нотарас больше ничем не выказал своего недовольства. Учтиво поклонившись патрикии, он поцеловал ей руку и подсадил в отдельную повозку. Увидев это, Желань улыбнулась.
Потом хозяин таким же образом подсадил в повозку и ее; следом сел сам и приказал трогать. Господа со слугами и охраной двинулись прочь от Большого дворца – к Августейону, чтобы дальше проследовать по Месе, главной улице Города, делившей его пополам.
Феодора огляделась. Все ее вещи были здесь – все, кроме ее старого русского платья: подарки хозяина, плата за блуд… или за любовь?
Она не хотела, не могла это разбирать.
- Иди сюда, - негромко, но властно позвал ромей. Феодора послушно придвинулась ближе, и он обнял ее, так что голова славянки прижалась к его груди.
- Я тосковал по тебе, - тихо сказал он, перебирая ее пальцы. Желань беспокойно пошевелилась, обернулась на него; но Фома Нотарас просто сидел, глядя в никуда, прижимая ее к себе.
С минуту она слушала цоканье копыт по мощеной дороге – и вдруг, встрепенувшись, воскликнула:
- Постой! Пожалуйста!
- Что такое? – изумился ее хозяин.
Феодора сложила руки.
- Я хочу помолиться. Я хочу пойти в ваш великий храм, Святую Софию, - быть может, я никогда больше ее не увижу!
Фома Нотарас посмотрел на нее так, как его языческий предок взглянул бы на свою говорящую вещь, которая вдруг заявила бы, что хочет пойти помолиться в храм за какую-то свою душу.
Однако потом благородный патрикий терпеливо улыбнулся, в глазах же зажглось удовольствие. Ему было приятно, что его женщина из Московии чтит величайшую святыню Константинополя.
- Хорошо, - сказал грек. – Пойдем помолимся вместе.
Он выглянул в окно, отвернув занавешивавший его ковер, - потом замолчал на некоторое время. Потом крикнул вознице остановиться.
Они выбрались из повозки, и Желань на миг испугалась, что хозяин позовет и Метаксию. Он и в самом деле позвал. Но та отказалась идти.
Стыдно идти вместе с рабыней туда, где их увидят все, - не хочется возбуждать толки?
Феодора заставила себя отбросить эти мысли; когда же они вошли в собор, она забыла и себя, и даже того, кто ее сопровождал. Приоткрыв рот и откинув голову, так что шелковое покрывало свалилось на плечи, славянка созерцала святых, которые словно парили под куполом Софии; потом обозрела мозаичные картины и фрески, во все стены, трепетавшие в свете сотен свечей, смешивавшемся со светом, лившимся из окон; казалось, изображенные вот-вот сойдут со своих стен – или молящиеся воспарят ввысь, к Господу...
- В Большом дворце есть галерея императоров и их семей, тоже прекрасные мозаичные картины, - коснувшись ее плеча, проговорил у нее над ухом хозяин. – Но с Софией им не сравниться.
Феодора вздрогнула: на миг ей представилась галерея императоров, в которой убийцы идут перед убитыми, наследуют им. Но София была слишком прекрасна, чтобы задумываться об этом.
- Какого святого ты чтишь? – заботливо спросил ее господин. – Кому хочешь поклониться?
Феодора не знала – она никогда не разбирала этого; ее желания и чувства дома, в сравнении с теперешними, были как домашняя часовня, часовня боярыни, рядом с цареградским собором.
Феодора просто стала на колени и положила земной поклон, почтив сразу все это великолепие. Патрикий класть поклонов не стал, но опустился на колени и долго молился шепотом, отрешившись от всего.
Потом он встал, перекрестился, взял наложницу за руку и повел прочь. Они молча забрались в повозку – и вереница двинулась дальше.
Некоторое время господин и рабыня ехали в молчании – опять прижались друг к другу, но ничего не говорили. Потом Феодора прислушалась к перестуку копыт и колес, следовавшему за ними.
- Господин, разреши мне спросить, - тихо сказала она.
Фома открыл глаза – казалось, он задремал; но милостиво кивнул.
- Говори!
- Госпожа Метаксия – она похожа на тебя. У нее точно такие же серые глаза, и смотрите вы… Она не родственница тебе? – с осторожностью спросила славянка.
- Родственница, - ответил ромей. – Дочь моей тетки, двоюродная сестра. Многие благородные семьи в родстве между собой, - прибавил он.
Тут Желань припомнила слова патрикии, о хорошем любовнике, - и только покачала головой. Фома Нотарас посмотрел на ее серьезное бледное лицо – и, улыбнувшись, отвернулся.
* Морея — средневековое название полуострова Пелопоннес, одного из основных очагов греческой цивилизации и одного из последних оплотов гибнущей Византийской империи.
* Императорская гвардия.
Re: Ставрос
Глава 9
Они ехали много дней – ночуя в гостиницах, где собирались шумные смуглые люди всякого происхождения и звания, пугавшие славянку, и где проезжающим служили такие же сомнительные люди. Почему все они казались Желани грешниками, хотя она совсем их не знала?
Должно быть, потому, подумала пленница, что все южане – страстные люди; такими и сотворены Господом, чтобы драться друг с другом по поводу и без повода; и им всегда тесно рядом… И кровь на солнце вскипает так легко…
Ей приятно было со своим господином – не только потому, что он был ласков, а еще и потому, что он оказался светлокож и светловолос. Если бы благородный патрикий оказался другим, таким, как все эти ослепленные похотями черные и смуглые крикуны, Желань наверняка уже рассталась бы с жизнью: она не вынесла бы близости со своим хозяином и не смогла бы это скрыть.
Даже Метаксия, благороднейшая из известных ей женщин, порою пугала ее не тем, что славянка знала и подозревала о ней, а самой своей наружностью и нравом.
Феодора охотно не показывалась бы из повозки в людных местах – но приходилось выходить, и она с робостью и неприязнью озирала греческие города, которые они проезжали, - неопрятные, некрасивые, обедневшие. Московитка успела сродниться, даже полюбить Константинополь – но он один из всех мест, где они побывали, сохранил свою красоту; в нем одном ощущалось веяние древнего, мощного духа. Константинополь же оставался и главной сокровищницей империи.
Чем южнее они продвигались, тем чернее и опаснее Желани представлялись гречины, тем белее и невыносимее для глаз – солнце и палимые им города. Метаксия успокаивала ее, когда они укрывались в комнатах.
- Скоро ты будешь на земле Фомы Нотараса – а там все еще хорошо и благословенно, как в элисии*, там растут тенистые маслины, акации… Там зеленые луга и сладкая вода… Не будет никакого больше плебса, который так нам докучает.
Желань вдруг осознала - и ужаснулась тому, что ей противны эти люди: ведь они были люди и ее братья-христиане! Метаксия же только смеялась, наморщив свой нос, прямой, как у классической статуи:
- Они не только невоспитанны, а еще и воняют, как старый сыр!
Гречанка ухаживала за ней, как во дворце: обмахивала веером – без этого предмета, заимствованного, должно быть, на западе, здесь было не обойтись - обливала водой руки и ноги. Когда Феодора захотела таким же образом поухаживать за своей знатной прислужницей, вдруг застыдившись подобного положения, Метаксия весело отказалась.
- Мне вовсе не жарко! А ты вот-вот упадешь в обморок!
У нее, впрочем, была собственная молоденькая служанка-гречанка, которую патрикия могла с полным правом принудить к чему угодно; Феодора не знала, о чем Метаксия говорит со своей прислужницей наедине и что ей приказывает. Но ходить за рабыней-славянкой Метаксии нравилось самой – ей нравилось такое служение, которое было почти насилием, любовь, которая была почти принуждением. Ей нравилось переделывать Желань по греческому образцу, смаковать ее перевоплощение и развращение; или же - претворение согласно гибнущим греческим добродетелям...
Метаксия являла собою замечательный пример византийского властолюбия – властолюбия, как имеющего множество смиренных личин, так и неприкрытого, яркого и жадного. Она казалась обратной - темной, женской, - стороной своего двоюродного брата.
"Но лучше уж такая власть и такая любовь, - иногда думала Желань, - чем безразличие и бессилие!"
На одной из развилок дороги, которая казалась бы заброшенной, если бы не высокие амфоры, стоявшие по сторонам ее, как межевые столбы, Метаксия распрощалась со своими спутниками.
- Будьте здоровы, - сказала она, улыбаясь, принятую по старинному обычаю фразу. При встрече грекам полагалось желать друг другу радости.* Как же просто, как исполнено света было их прошлое – и предназначено оно было только друг для друга, а не для чужеземных рабов!
Феодора смотрела на патрикию со смущением, облегчением, что ее оставляют в покое, и сожалением, которое только сейчас начало пробуждаться: она осознала, как привыкла к своей помощнице, и как благодарна ей, несмотря ни на что.
- Спасибо тебе, - неожиданно для самой себя сказала славянка. – Ты спасла мне жизнь.
Метаксия удивленно посмотрела на нее – потом улыбнулась и кивнула.
- Так было предназначено судьбой, - серьезно сказала она. А Феодора неожиданно подумала: уж не Метаксия ли посоветовала Фоме Нотарасу купить себе рабыню для развлечения?
Если так – она должна быть благодарна Метаксии вдвойне…
Метаксия обнялась и расцеловалась сначала со своим блистательным родственником и покровителем, потом – с Феодорой.
- Мы скоро увидимся, друзья, - сказала она и скользнула в свою повозку. Возница прикрикнул на холеных лошадей, хлестнул их, и Метаксия отбыла, красиво и горделиво. С нею отъехали несколько собственных ее верховых слуг и несколько этериотов; а Феодора, провожая глазами этих сильных всадников в доспехах, невольно удивлялась, как Метаксия не боится ехать одна со столькими чужими мужчинами.
Но ведь и защита мужа – только заступа одного человека… Защитить христианина может один Бог.
Фома Нотарас, стоявший сзади, вдруг сжал ее плечи.
- Садись в повозку, - сказал он, - ты побледнела от жары.
Феодора кивнула и послушно забралась в повозку, которая уже успела ей опостылеть за этот долгий путь. Патрикий сел следом; ей вдруг стало страшно остаться совсем одной, в полной власти этого знатного человека. А ему, должно быть, не терпелось.
В темноте он привлек наложницу к себе за руки и посадил на колени, как когда-то. Она смутилась; но ее вдруг охватило забытое желание.
Ромей схватил ее ноги и развел их, заставив сесть на себя верхом; прижал ее совсем тесно.
- Обними меня, - прошептал он.
Феодора послушно обхватила его за шею. Он нашел ее губы, поглаживая ее шею и спину, и славянку охватил жар, от которого не было спасения.
Они очнулись нескоро – хозяин не мог от нее оторваться, а Феодора уйти. Она сидела, прижавшись к нему спиной и забыв все на свете, а грек обнимал ее, уткнувшись лицом в ее волосы. Он берег ее и не дошел до конца, хотя теперь ему никто не мог бы помешать…
"Не полюби его слишком", - предостерегала ее Метаксия.
Но как такого не полюбить – и даже слишком?
Феодора оглянулась на господина.
- Ты терпишь, да?
Он посмотрел на нее и усмехнулся ее простоте.
- Плебеи насыщаются жадно и не чувствуют вкуса, - ответил он, поцеловав ее в шею. – Только благородный человек способен наслаждаться долго – как и истинно наслаждаться вообще… Удовольствие, которое растягивают, для ценителя становится двойным.
- Ах, вот как, - сказала славянка.
Она застыла в его объятиях, а он словно бы и не заметил. Продолжал поглаживать ее руки, вдыхая аромат ее волос. Она же думала с горечью, что патрикий хотя бы честен – и что Метаксия предостерегала ее правильно…
Феодора шевельнулась и наконец высвободилась. Она перекрестилась, а потом быстро оглянулась на хозяина; подперев подбородок рукой, он улыбался ей из затемненного угла, точно дитяти.
- Мы скоро приедем, - сказал патрикий.
Она вздохнула.
- Можно ли нам немного пройтись пешком? Я уже истомилась от этой тесноты и тряски!
Он кивнул, с большей готовностью, чем Феодора думала. Улыбался теперь так, точно готовился ее удивить.
- Лучше я посажу тебя на лошадь, сверху видно больше, - сказал грек.
Феодора нахмурилась, но спорить не могла; высадив ее из повозки, Фома велел одному из слуг спешиться. Он вскочил в седло с ловкостью и легкостью, какой она от него не ожидала, - хотя давно знала, что ее господин намного крепче телом, чем это кажется на первый взгляд. Протянув наложнице руку, он поднял ее в седло и, посадив перед собой, обнял за талию.
- Вот так очень хорошо, - прошептал он. – Тебе все видно?
- Да, - с тревогой ответила она.
Фома засмеялся и пришпорил коня; казалось, его нимало не волнует, что пеший слуга вынужден будет бежать за ними со всех ног. Это не тревожило и остальных, которые без оглядки поскакали следом за господином. Но, оглянувшись, славянка высмотрела, что один из товарищей взял пешего слугу на спину своего коня…
И ромеи умели заботиться о ближнем, хотя и на собственный лад.
Патрикий коснулся ее щеки и заставил обратить внимание на дорогу. И скоро Феодора увидела, что он ей показывает; у нее округлились глаза в ужасе, и она упала бы с коня, если бы Фома не придержал ее.
- Распятые… - прошептала она: невольно крестясь, повторяя изображение страшного орудия, которое уже полторы тысячи лет служило знаком спасения всем христианам. – Господи!
Вдоль дороги на крестах висели трупы, истлевшие до костей, - правда, привязанные веревками, а не прибитые гвоздями.
- Кто это такие? – спросила Феодора, трудно сглотнув.
- Преступники, - ответил патрикий. – Такие же, как те, кто был распят с Христом. Это излюбленный римский способ казни.
Феодора смотрела на него, широко раскрыв глаза. Господин улыбнулся, тронув пальцем ее губы.
- А если бы Христос был повешен, а не распят, мы сейчас носили бы на шее маленькие виселицы, - прошептал он.
Белый мраморный особняк Фомы Нотараса и в самом деле оказался прекрасным домом, расположенным в гостеприимном месте, далеком от всякой суеты: домом, сочетавшим в себе величие и уют – то, чего так не хватало императорским дворцам. Для обоих, для хозяина и для его наложницы, были приготовлены ванны с лепестками роз; потом неизвестный служитель, старый грек с крепкими и чуткими руками, разминал их тела.
Феодора очень смущалась, как всегда, когда хозяин пробовал на ней что-то необыкновенное. А он только блаженно улыбался, глядя, как слуга трудится над нею, как только что трудился над ним самим.
- Теперь поужинать – и спать, - сказал ромей.
Ужинали они вместе – прекрасной греческой рыбой с овощами, которая, как с удивлением узнала Феодора, была и дороже, и вкуснее мяса. Спать отправились тоже вместе.
Патрикий почти мгновенно заснул, приобняв Феодору за талию. Ей же было так непривычно спать рядом с другим человеком, с мужчиной, – а тем паче с хозяином своей судьбы, - что она долго не могла заснуть, несмотря на то, что очень устала. Потом к ней незаметно пришел сон.
Утром они наконец соедииились снова – с большим наслаждением для обоих; потом вместе завтракали. Потом опять предавались любви.
Потом патрикий предложил славянке соснуть с дороги.
- Ты все-таки очень устала, - сказал он.
Феодора не чувствовала себя усталой; наоборот, объятия придали ей сил, что она с изумлением замечала и прежде. Но слова хозяина словно навеяли на нее блаженную дрему. Она легла в постель и вскоре перенеслась туда, где теперь могла побывать только в мечтах.
Патрикий полюбовался, как она спит, поцеловал ее, потом удалился к себе в кабинет, обставленный в итальянском стиле.
"Метаксия – Нотарасу:
Любезный брат!
Как ты поживаешь? Господь к нам милостив: наши поместья - последние райские уголки, где благородные люди могут отдохнуть достойно и набраться сил для служения государству. Я к тебе приеду, как только позволят дела. А дел очень много.
Помнишь, как в Августейоне меня чуть не похитили католики, чтобы потребовать выкуп – или просто показать свою власть над нами? Здесь впору опасаться того же самого: паписты хозяйничают в Аргосе* и его предместьях - и бесчинствуют как у себя дома. Грубое подражательство этих немытых разбойников, подражательство нам и "возрождение", есть только искажение и осмеяние прекрасного эллинизма. Греческий дух уже не возродится – и живет только в последних аристократах Нового Рима, таких, как мы с тобой; хотя ты всегда был больше римлянин, чем я, предпочитающая называть себя эллинкой.
Но дни последнего Рима мы обязаны длить, сколько будет возможно, - хотя осталось нам немного.
Сносился ли ты уже с деспотом*? Иоанн угасает, что очевидно всем; и это ничтожная кара Господня за то, что он допустил до нас католиков и расколол нашу святую церковь. Он устроил на нашей земле такую же резню и дьявольщину, как та, что уже столетия царит в ужасной Европе, куда я никогда не ступила бы ногой по доброй воле. Скажи: куда мы могли бы бежать, брат, - если бы могли?
В Московию? Вижу, как ты смеешься, мой дорогой, - хотя эти простосердечные дикари куда лучше католиков, жить среди них немыслимо. Мне было бы довольно уже тех рассказов, что я наслушалась от твоей Феодоры: если бы я еще прежде того не изучила характер и образ жизни русов. Они даже в своей набожности, перенятой от нас со всем доверием, безнадежно дикие, и дикость их со временем усложнилась необыкновенно, и принимает порою самые странные формы: это такое же грубое подражательство нам, как в Италии. Ты не находишь?
Кстати: как там поживает наше русское дитя? Надеюсь, ты не уморил ее – и не устал от нее? Я ведь знаю, как быстро ты утомляешься, мой дорогой.
Но теперь - по крайней мере, пока, - вам не грозят большие потрясения, и она сможет благополучно выносить и родить тебе наследника. Я всегда знала, что ты не выберешь для этого гречанку. Удивительно! Я понимала это даже тогда, когда зачать наследника пытались мы с тобой. Хотя я знаю наверное, что ты любил меня.
Как ты поступишь с нею дальше? Ведь не женишься, конечно?
Сейчас такие времена, что закроют глаза даже на брак с безродной московиткой, - но я потеряю веру в тебя и уважение, если ты это сделаешь. Хотя твоя наложница одна из лучших славян, которых я видела; и бросить ее будет жестоко.
Когда она тебе наскучит, пришли ее ко мне. Уж я-то в любви постоянна, и я о ней позабочусь.
Вижу, как грозно сдвинулись твои брови, - и умолкаю. Я пошутила с тобой, мой несравненный Фома. А ты что подумал?
Мир тебе, и да хранят тебя боги и святые угодники".
Патрикий, сидевший за столом в кабинете, прочитал это полузаботливое-полунасмешливое письмо – и сделался мрачен, как будто за легким тоном увидел настоящее настроение и настоящие намерения писавшей. Он посмотрел в сторону спальни, откуда недавно вышел, пребывая в блаженстве; и где еще оставалась Феодора.
Она сейчас позировала скульптору – на что согласилась быстро, и даже охотно. Почему-то Фоме стало неприятно, когда он подумал об этом; хотя именно он первым предложил своей наложнице запечатлеть ее в глине, как на холсте, - пусть до мрамора и вечности в камне было еще далеко…
Он еще раз посмотрел на свиток, который держал в руке и уже смял, - потом вдруг выругался и быстро поднес его к свечке.
* Райские (Елисейские) поля в греческой мифологии.
* "Гелиайне" – "будь здоров", древнегреческое прощание; при встрече говорили "хайре", "радуйся".
* Город в Морее, в период правления Иоанна Палеолога находившийся под властью венецианцев.
* Деспот - титул, даровавшийся императором наиболее приближенным лицам; в управление деспоту отдавались отдельные провинции. Здесь подразумевается Константин, брат и наследник Иоанна.
Они ехали много дней – ночуя в гостиницах, где собирались шумные смуглые люди всякого происхождения и звания, пугавшие славянку, и где проезжающим служили такие же сомнительные люди. Почему все они казались Желани грешниками, хотя она совсем их не знала?
Должно быть, потому, подумала пленница, что все южане – страстные люди; такими и сотворены Господом, чтобы драться друг с другом по поводу и без повода; и им всегда тесно рядом… И кровь на солнце вскипает так легко…
Ей приятно было со своим господином – не только потому, что он был ласков, а еще и потому, что он оказался светлокож и светловолос. Если бы благородный патрикий оказался другим, таким, как все эти ослепленные похотями черные и смуглые крикуны, Желань наверняка уже рассталась бы с жизнью: она не вынесла бы близости со своим хозяином и не смогла бы это скрыть.
Даже Метаксия, благороднейшая из известных ей женщин, порою пугала ее не тем, что славянка знала и подозревала о ней, а самой своей наружностью и нравом.
Феодора охотно не показывалась бы из повозки в людных местах – но приходилось выходить, и она с робостью и неприязнью озирала греческие города, которые они проезжали, - неопрятные, некрасивые, обедневшие. Московитка успела сродниться, даже полюбить Константинополь – но он один из всех мест, где они побывали, сохранил свою красоту; в нем одном ощущалось веяние древнего, мощного духа. Константинополь же оставался и главной сокровищницей империи.
Чем южнее они продвигались, тем чернее и опаснее Желани представлялись гречины, тем белее и невыносимее для глаз – солнце и палимые им города. Метаксия успокаивала ее, когда они укрывались в комнатах.
- Скоро ты будешь на земле Фомы Нотараса – а там все еще хорошо и благословенно, как в элисии*, там растут тенистые маслины, акации… Там зеленые луга и сладкая вода… Не будет никакого больше плебса, который так нам докучает.
Желань вдруг осознала - и ужаснулась тому, что ей противны эти люди: ведь они были люди и ее братья-христиане! Метаксия же только смеялась, наморщив свой нос, прямой, как у классической статуи:
- Они не только невоспитанны, а еще и воняют, как старый сыр!
Гречанка ухаживала за ней, как во дворце: обмахивала веером – без этого предмета, заимствованного, должно быть, на западе, здесь было не обойтись - обливала водой руки и ноги. Когда Феодора захотела таким же образом поухаживать за своей знатной прислужницей, вдруг застыдившись подобного положения, Метаксия весело отказалась.
- Мне вовсе не жарко! А ты вот-вот упадешь в обморок!
У нее, впрочем, была собственная молоденькая служанка-гречанка, которую патрикия могла с полным правом принудить к чему угодно; Феодора не знала, о чем Метаксия говорит со своей прислужницей наедине и что ей приказывает. Но ходить за рабыней-славянкой Метаксии нравилось самой – ей нравилось такое служение, которое было почти насилием, любовь, которая была почти принуждением. Ей нравилось переделывать Желань по греческому образцу, смаковать ее перевоплощение и развращение; или же - претворение согласно гибнущим греческим добродетелям...
Метаксия являла собою замечательный пример византийского властолюбия – властолюбия, как имеющего множество смиренных личин, так и неприкрытого, яркого и жадного. Она казалась обратной - темной, женской, - стороной своего двоюродного брата.
"Но лучше уж такая власть и такая любовь, - иногда думала Желань, - чем безразличие и бессилие!"
На одной из развилок дороги, которая казалась бы заброшенной, если бы не высокие амфоры, стоявшие по сторонам ее, как межевые столбы, Метаксия распрощалась со своими спутниками.
- Будьте здоровы, - сказала она, улыбаясь, принятую по старинному обычаю фразу. При встрече грекам полагалось желать друг другу радости.* Как же просто, как исполнено света было их прошлое – и предназначено оно было только друг для друга, а не для чужеземных рабов!
Феодора смотрела на патрикию со смущением, облегчением, что ее оставляют в покое, и сожалением, которое только сейчас начало пробуждаться: она осознала, как привыкла к своей помощнице, и как благодарна ей, несмотря ни на что.
- Спасибо тебе, - неожиданно для самой себя сказала славянка. – Ты спасла мне жизнь.
Метаксия удивленно посмотрела на нее – потом улыбнулась и кивнула.
- Так было предназначено судьбой, - серьезно сказала она. А Феодора неожиданно подумала: уж не Метаксия ли посоветовала Фоме Нотарасу купить себе рабыню для развлечения?
Если так – она должна быть благодарна Метаксии вдвойне…
Метаксия обнялась и расцеловалась сначала со своим блистательным родственником и покровителем, потом – с Феодорой.
- Мы скоро увидимся, друзья, - сказала она и скользнула в свою повозку. Возница прикрикнул на холеных лошадей, хлестнул их, и Метаксия отбыла, красиво и горделиво. С нею отъехали несколько собственных ее верховых слуг и несколько этериотов; а Феодора, провожая глазами этих сильных всадников в доспехах, невольно удивлялась, как Метаксия не боится ехать одна со столькими чужими мужчинами.
Но ведь и защита мужа – только заступа одного человека… Защитить христианина может один Бог.
Фома Нотарас, стоявший сзади, вдруг сжал ее плечи.
- Садись в повозку, - сказал он, - ты побледнела от жары.
Феодора кивнула и послушно забралась в повозку, которая уже успела ей опостылеть за этот долгий путь. Патрикий сел следом; ей вдруг стало страшно остаться совсем одной, в полной власти этого знатного человека. А ему, должно быть, не терпелось.
В темноте он привлек наложницу к себе за руки и посадил на колени, как когда-то. Она смутилась; но ее вдруг охватило забытое желание.
Ромей схватил ее ноги и развел их, заставив сесть на себя верхом; прижал ее совсем тесно.
- Обними меня, - прошептал он.
Феодора послушно обхватила его за шею. Он нашел ее губы, поглаживая ее шею и спину, и славянку охватил жар, от которого не было спасения.
Они очнулись нескоро – хозяин не мог от нее оторваться, а Феодора уйти. Она сидела, прижавшись к нему спиной и забыв все на свете, а грек обнимал ее, уткнувшись лицом в ее волосы. Он берег ее и не дошел до конца, хотя теперь ему никто не мог бы помешать…
"Не полюби его слишком", - предостерегала ее Метаксия.
Но как такого не полюбить – и даже слишком?
Феодора оглянулась на господина.
- Ты терпишь, да?
Он посмотрел на нее и усмехнулся ее простоте.
- Плебеи насыщаются жадно и не чувствуют вкуса, - ответил он, поцеловав ее в шею. – Только благородный человек способен наслаждаться долго – как и истинно наслаждаться вообще… Удовольствие, которое растягивают, для ценителя становится двойным.
- Ах, вот как, - сказала славянка.
Она застыла в его объятиях, а он словно бы и не заметил. Продолжал поглаживать ее руки, вдыхая аромат ее волос. Она же думала с горечью, что патрикий хотя бы честен – и что Метаксия предостерегала ее правильно…
Феодора шевельнулась и наконец высвободилась. Она перекрестилась, а потом быстро оглянулась на хозяина; подперев подбородок рукой, он улыбался ей из затемненного угла, точно дитяти.
- Мы скоро приедем, - сказал патрикий.
Она вздохнула.
- Можно ли нам немного пройтись пешком? Я уже истомилась от этой тесноты и тряски!
Он кивнул, с большей готовностью, чем Феодора думала. Улыбался теперь так, точно готовился ее удивить.
- Лучше я посажу тебя на лошадь, сверху видно больше, - сказал грек.
Феодора нахмурилась, но спорить не могла; высадив ее из повозки, Фома велел одному из слуг спешиться. Он вскочил в седло с ловкостью и легкостью, какой она от него не ожидала, - хотя давно знала, что ее господин намного крепче телом, чем это кажется на первый взгляд. Протянув наложнице руку, он поднял ее в седло и, посадив перед собой, обнял за талию.
- Вот так очень хорошо, - прошептал он. – Тебе все видно?
- Да, - с тревогой ответила она.
Фома засмеялся и пришпорил коня; казалось, его нимало не волнует, что пеший слуга вынужден будет бежать за ними со всех ног. Это не тревожило и остальных, которые без оглядки поскакали следом за господином. Но, оглянувшись, славянка высмотрела, что один из товарищей взял пешего слугу на спину своего коня…
И ромеи умели заботиться о ближнем, хотя и на собственный лад.
Патрикий коснулся ее щеки и заставил обратить внимание на дорогу. И скоро Феодора увидела, что он ей показывает; у нее округлились глаза в ужасе, и она упала бы с коня, если бы Фома не придержал ее.
- Распятые… - прошептала она: невольно крестясь, повторяя изображение страшного орудия, которое уже полторы тысячи лет служило знаком спасения всем христианам. – Господи!
Вдоль дороги на крестах висели трупы, истлевшие до костей, - правда, привязанные веревками, а не прибитые гвоздями.
- Кто это такие? – спросила Феодора, трудно сглотнув.
- Преступники, - ответил патрикий. – Такие же, как те, кто был распят с Христом. Это излюбленный римский способ казни.
Феодора смотрела на него, широко раскрыв глаза. Господин улыбнулся, тронув пальцем ее губы.
- А если бы Христос был повешен, а не распят, мы сейчас носили бы на шее маленькие виселицы, - прошептал он.
Белый мраморный особняк Фомы Нотараса и в самом деле оказался прекрасным домом, расположенным в гостеприимном месте, далеком от всякой суеты: домом, сочетавшим в себе величие и уют – то, чего так не хватало императорским дворцам. Для обоих, для хозяина и для его наложницы, были приготовлены ванны с лепестками роз; потом неизвестный служитель, старый грек с крепкими и чуткими руками, разминал их тела.
Феодора очень смущалась, как всегда, когда хозяин пробовал на ней что-то необыкновенное. А он только блаженно улыбался, глядя, как слуга трудится над нею, как только что трудился над ним самим.
- Теперь поужинать – и спать, - сказал ромей.
Ужинали они вместе – прекрасной греческой рыбой с овощами, которая, как с удивлением узнала Феодора, была и дороже, и вкуснее мяса. Спать отправились тоже вместе.
Патрикий почти мгновенно заснул, приобняв Феодору за талию. Ей же было так непривычно спать рядом с другим человеком, с мужчиной, – а тем паче с хозяином своей судьбы, - что она долго не могла заснуть, несмотря на то, что очень устала. Потом к ней незаметно пришел сон.
Утром они наконец соедииились снова – с большим наслаждением для обоих; потом вместе завтракали. Потом опять предавались любви.
Потом патрикий предложил славянке соснуть с дороги.
- Ты все-таки очень устала, - сказал он.
Феодора не чувствовала себя усталой; наоборот, объятия придали ей сил, что она с изумлением замечала и прежде. Но слова хозяина словно навеяли на нее блаженную дрему. Она легла в постель и вскоре перенеслась туда, где теперь могла побывать только в мечтах.
Патрикий полюбовался, как она спит, поцеловал ее, потом удалился к себе в кабинет, обставленный в итальянском стиле.
"Метаксия – Нотарасу:
Любезный брат!
Как ты поживаешь? Господь к нам милостив: наши поместья - последние райские уголки, где благородные люди могут отдохнуть достойно и набраться сил для служения государству. Я к тебе приеду, как только позволят дела. А дел очень много.
Помнишь, как в Августейоне меня чуть не похитили католики, чтобы потребовать выкуп – или просто показать свою власть над нами? Здесь впору опасаться того же самого: паписты хозяйничают в Аргосе* и его предместьях - и бесчинствуют как у себя дома. Грубое подражательство этих немытых разбойников, подражательство нам и "возрождение", есть только искажение и осмеяние прекрасного эллинизма. Греческий дух уже не возродится – и живет только в последних аристократах Нового Рима, таких, как мы с тобой; хотя ты всегда был больше римлянин, чем я, предпочитающая называть себя эллинкой.
Но дни последнего Рима мы обязаны длить, сколько будет возможно, - хотя осталось нам немного.
Сносился ли ты уже с деспотом*? Иоанн угасает, что очевидно всем; и это ничтожная кара Господня за то, что он допустил до нас католиков и расколол нашу святую церковь. Он устроил на нашей земле такую же резню и дьявольщину, как та, что уже столетия царит в ужасной Европе, куда я никогда не ступила бы ногой по доброй воле. Скажи: куда мы могли бы бежать, брат, - если бы могли?
В Московию? Вижу, как ты смеешься, мой дорогой, - хотя эти простосердечные дикари куда лучше католиков, жить среди них немыслимо. Мне было бы довольно уже тех рассказов, что я наслушалась от твоей Феодоры: если бы я еще прежде того не изучила характер и образ жизни русов. Они даже в своей набожности, перенятой от нас со всем доверием, безнадежно дикие, и дикость их со временем усложнилась необыкновенно, и принимает порою самые странные формы: это такое же грубое подражательство нам, как в Италии. Ты не находишь?
Кстати: как там поживает наше русское дитя? Надеюсь, ты не уморил ее – и не устал от нее? Я ведь знаю, как быстро ты утомляешься, мой дорогой.
Но теперь - по крайней мере, пока, - вам не грозят большие потрясения, и она сможет благополучно выносить и родить тебе наследника. Я всегда знала, что ты не выберешь для этого гречанку. Удивительно! Я понимала это даже тогда, когда зачать наследника пытались мы с тобой. Хотя я знаю наверное, что ты любил меня.
Как ты поступишь с нею дальше? Ведь не женишься, конечно?
Сейчас такие времена, что закроют глаза даже на брак с безродной московиткой, - но я потеряю веру в тебя и уважение, если ты это сделаешь. Хотя твоя наложница одна из лучших славян, которых я видела; и бросить ее будет жестоко.
Когда она тебе наскучит, пришли ее ко мне. Уж я-то в любви постоянна, и я о ней позабочусь.
Вижу, как грозно сдвинулись твои брови, - и умолкаю. Я пошутила с тобой, мой несравненный Фома. А ты что подумал?
Мир тебе, и да хранят тебя боги и святые угодники".
Патрикий, сидевший за столом в кабинете, прочитал это полузаботливое-полунасмешливое письмо – и сделался мрачен, как будто за легким тоном увидел настоящее настроение и настоящие намерения писавшей. Он посмотрел в сторону спальни, откуда недавно вышел, пребывая в блаженстве; и где еще оставалась Феодора.
Она сейчас позировала скульптору – на что согласилась быстро, и даже охотно. Почему-то Фоме стало неприятно, когда он подумал об этом; хотя именно он первым предложил своей наложнице запечатлеть ее в глине, как на холсте, - пусть до мрамора и вечности в камне было еще далеко…
Он еще раз посмотрел на свиток, который держал в руке и уже смял, - потом вдруг выругался и быстро поднес его к свечке.
* Райские (Елисейские) поля в греческой мифологии.
* "Гелиайне" – "будь здоров", древнегреческое прощание; при встрече говорили "хайре", "радуйся".
* Город в Морее, в период правления Иоанна Палеолога находившийся под властью венецианцев.
* Деспот - титул, даровавшийся императором наиболее приближенным лицам; в управление деспоту отдавались отдельные провинции. Здесь подразумевается Константин, брат и наследник Иоанна.
Re: Ставрос
Глава 10
- Нет, нужен гипс, а не глина, - сказала Метаксия, в который раз обойдя и придирчиво осмотрев влажно блестящую темную массу, из которой выступали покрытая покрывалом женская голова и плечи. Из-под покрывала показывался высокий лоб и волосы, разделенные пробором; шею обвивало ожерелье.
Метаксия повернулась к славянке и скользнула рукой по ее римской прическе, перевитой лентами.
- И зачем ты покрыла своей статуе волосы?
Она вдруг обхватила ее рукой за шею, приблизила лоб ко лбу и шепнула:
- Разве ты не знаешь, что покрывание волос означает подчинение мужу? Это он тебе так велел?
- Я сама хотела, - ответила Желань. – Так ходят честные жены и у вас, и у нас.
Она смотрела прямо, открыто.
- Разве не правда?
Метаксия едва заметно нахмурилась.
- Правда, - сказала она, - ты правильно говоришь.
- Госпожа, - тихо вмешался скульптор, ждавший в углу зала, в почтительном отдалении. – Нужно прикрыть статую! Иначе глина высохнет!
Метаксия повернулась к нему, уперев руки в бока.
- А скажи-ка мне, Олимп, почему ты не взял алебастр? Разве ты сам не видишь, что госпожа выходит как глиняный божок? Или у нее кожа темная, как у африканки?
Прежде, чем Олимп успел ответить, ответила изображенная.
- Мне хозяин рассказывал, что у нас на Руси раньше делали глиняных и деревянных божков – богинь с темными лицами, добрых к людям… Их носили с собой как обереги и укладывали с собой спать… Как и по сей день мы на Купалу костры жжем…
Славянка рассмеялась, поправив темно-русые волосы.
- В том худого нет, чтобы быть сделанным из глины… как Адам, - прибавила она, улыбаясь. – А белая статуя выйдет совсем как ваши, греческие, что поставлены по всему Царьграду на площадях и во дворцах. У вас и своих таких довольно!
Метаксия на несколько мгновений потеряла дар речи.
- Ах, вот как, - едва слышно сказала она наконец. – Хорошо же он тебя учит!
- Да уж не жалуюсь, - сказала Желань; и только тут почувствовала, что зарвалась.
- Олимп! Прикрой ее! – приказала Метаксия, взмахнув рукой, точно отгораживаясь от языческого идолища, которое неведомо как перенеслось на берега Босфора и немыслимым образом заявило на этих берегах свои права.
Скульптор поспешно набросил на статую мокрую ткань. Он перекрестился, затем сложил руки на животе, глядя на женщин с тревогой.
Патрикия покинула мастерскую, крупно, гневно шагая. Желань осталась в зале, глядя ей вслед с огорчением… и с каким-то превосходством.
Метаксия вышла в гостиную, где патрикий дожидался обеих женщин. Подойдя к двоюродному брату, она схватила его под руку. Фома Нотарас здесь, на отдыхе со своей наложницей, заметно окреп, заблистал мужским здоровьем и силой, и Метаксии это почему-то не понравилось.
- Пойдем поговорим! – бросила гостья ему в лицо.
Фома Нотарас вежливо усмехнулся, подчинившись. Он почему-то предчувствовал, что женщины поссорятся, обсуждая статую.
Родственники поднялись по лестнице в кабинет, где Метаксия набросилась на хозяина, точно фурия.
- Что ты наговорил этой несчастной язычнице? – воскликнула она.
- Феодора христианка, - спокойно ответил патрикий. – Такая же, как мы с тобой.
Метаксия рассмеялась, воздев руки.
- Святые угодники! Ты разве забыл, что христианство тавроскифов* таит в себе тьму и язычество, которые не истребить? Самое чистое, истинное христианство есть греческое… римское!
Фома усмехнулся.
- Оно чисто, ибо омыто кровью!
Метаксия вздрогнула.
- Да что с тобой?
- Ничего, - ответил патрикий, пристально глядя на родственницу. – Разве такие мои слова новость для тебя, сестра? Мы давно учили – и знаем, что дух Божий веет, где хочет…
Метаксия горько рассмеялась.
- И теперь он покинул нашу землю и унесся за море, к тавроскифам! Вы только послушайте этого благородного мужа! Темная язычница узнает историю своих предков из уст ромея – и заново учится у него поклоняться своим идолам!
Спокойное лицо Фомы Нотараса изменилось.
- Метаксия, если ты обидела Феодору в моем доме, немедленно ступай и извинись. Я знаю, что первая она никогда не затеяла бы ссору.
Он говорил ровно, учтиво, но так, что приготовленная резкость не сошла Метаксии на язык.
- Неслыханно, - пробормотала патрикия и, повернувшись, направилась обратно в мастерскую. Щеки ее покрыл румянец. Она не могла себе представить, как будет извиняться перед рабыней.
Однако этого не потребовалось – славянка сама вышла навстречу и поклонилась.
- Я тебя обидела, - сказала Желань, - прости на худом слове!
Метаксия растерянно застыла.
Потом она улыбнулась, хотя удивление все еще стояло в серых глазах. - Я не сержусь, - только и вымолвила гречанка.
Русская пленница держала себя как хозяйка, госпожа! Метаксия не знала, чем оскорбляться больше, - страннейшим идолопоклонством или непонятным достоинством, которое в Феодоре было таким же природным, неистребимым, как в них обеих женская сущность.
Потом Метаксия заставила себя улыбнуться почти сердечно и взяла славянку под руку.
- Не будем ссориться, христианам это не подобает, - сказала она.
Они вернулись в гостиную, где разделили трапезу. В зале зажгли огни, воскурили благовония, и ужин прошел почти по-семейному. Выпив вина, Метаксия искренне развеселилась и потешала друзей историями, приключившимися в ее поместье.
- Петрона опять забрался в конюшню, чтобы тайком свести лошадь и съездить в деревню к своей возлюбленной, - рассказывала патрикия, - но его заметили Овидий с Горацием, которые сидели в стойле! Они не посмели остановить вора – он разнес бы сплетню об этой парочке по всему дому! Даже глупый влюбленный мальчишка понял бы, что они там не стихи сочиняли!
Метаксия закатилась смехом.
- Я, похоже, одна в доме это заметила, потому что слежу за всем сама! Эти голубки так давно вместе, что я чуть не попросила отца Матфея их обвенчать!
Славянка знала, что Овидий с Горацием были молодые дворовые парни, развлекавшиеся сочинением стихов. Госпожа их хвалила и даже показывала какому-то столичному ценителю.
Феодора покраснела и нахмурилась, осмыслив слова патрикии. Хозяин вежливо улыбался ей – но не рассмеялся этой шутке. Метаксия перестала улыбаться.
- Да что с вами? Точно на похоронах!
- Метаксия, - начал Фома Нотарас. Он склонился к ней через стол – светлые волосы и браслет выше локтя заблестели золотом, точно он сам был прекрасным кумиром, богом, о котором очень заботились.
- Пожалуйста, не говори таких вещей при Феодоре. Она этого не любит и оскорбляется.
Метаксия несколько мгновений разглядывала родича так, точно перед ней был новый, неизвестный ей человек.
Потом хмыкнула и принялась за еду. До конца ужина никто за столом больше не произнес ни слова.
Потом Метаксия опять попросила хозяина выйти для разговора; теперь только взглядом. Феодора осталась одна за столом, точно наказанная. Она сидела как в кипятке.
До нее из-за двери доносились голоса хозяев, греческий язык, который она перестала понимать: ее господа говорили неразборчиво, быстро, как близкие люди, знающие друг о друге все.
- Что ты себе позволяешь, - говорила Метаксия, - что ты позволяешь ей со мной!..
- Тебя никто не обижал, - с холодной яростью отвечал патрикий. – Это мой дом, и мне решать, кого и как в нем почитать!
Метаксия рассмеялась и запустила руки в волнистые волосы, перехваченные двойным золотым обручем.
- Ну ты и фарисей, - проговорила она. – Твоя рабыня из тавроскифов еще хуже, чем мои Овидий и Гораций, а ты заступаешься за нее, как за жену! Уж не собираешься ли ты в самом деле жениться на ней? Не смеешь?...
Нотарас отвел глаза.
Метаксия понимающе усмехнулась.
- Неудобно, как и получить сейчас от нее ребенка! Ты умело восстановил против себя императора, а сейчас прячешься от его гнева! Ты знаешь, что если пойдешь с ней в храм, церковники тотчас донесут об этом Иоанну!
Патрикий закрыл лицо руками.
- Император посылал меня на исповедь, - пробормотал он, - но я не исповедуюсь уже очень давно. Ты знаешь, почему.
Метаксия недобро улыбнулась.
- Не только поэтому, - сказала она.
Вздохнула.
- Но и поэтому тоже.
Они вдруг обнялись, спрятав лицо друг у друга на плече.
- Прости, - прошептала Метаксия, - я вспыхиваю, как порох!
Патрикий улыбнулся и поднес к губам ее смуглую руку.
- Твоего неугасимого греческого огня* порою так не хватает моим спокойным водам.
Метаксия улыбнулась со слезами.
- А ребенок? Надеюсь, вы осторожны?
- Я осторожен, - ответил Фома.
Оба понимали, что слова о наследнике от рабыни-славянки, сказанные в письме, только шутка – и скорее грустная, чем злая.
- Идем успокоим ее, - сказала Метаксия. – Бедняжка, должно быть, уже в слезах!
Но Желань не плакала. Когда ее хозяева вернулись, она подняла на них темные сухие глаза, только щеки жарко пламенели.
Господин сразу сел к ней, прильнул; и Желань прижалась к его плечу, но не заплакала, а только сжала его руку. Метаксия недобро улыбнулась, глядя на это трогательное обоюдное мужество.
- Ну просто Орфей и Эвридика, - пробормотала она. – Не оглянись, певец!
- Простите, что мешаю, - громко сказала патрикия.
Фома оторвался от возлюбленной. У Феодоры же сделались большие неподвижные глаза.
- Мне пора, - спокойно сказала гречанка.
Хозяин поднялся из-за стола, красивый, счастливый как никогда, несмотря на все житейские бури:
- Метаксия, тебе приготовили комнату! Останься у нас на ночь, уже поздно!
Гречанка покачала головой.
- Нет, мой друг. Я и не собиралась оставаться, ты же знаешь, - сказала она. – Не бойся за меня, я прекрасно доеду.
Она встала и сняла со спинки свободного кресла гиматий из прозрачной золотистой ткани, в который сама задрапировалась, сколов на плече изумрудной фибулой в виде совы. Одеяние, сквозящее, словно летний вечер, было светлее лица и рук гречанки. Один конец гиматия она набросила на голову.
Подойдя к двери, патрикия остановилась и обернулась.
- Фома, проводи меня!
Он уже спешил к ней, простерев руки, точно пытаясь остановить. Взяв его под локоть, гостья вышла. Желань встала из-за стола, но не последовала за ними – ее хозяевам нужно было поговорить наедине.
Метаксия прошла половину садовой дорожки, не сказав ни слова; она так спешила, что патрикий едва поспевал. Наконец он остановил ее, едва ли не силой.
- Успокойся, сестра!
Метаксия повернулась к нему. Она была тиха, против ожиданий, - но глаза блестели, и щеки порозовели.
- Милый брат, я в самом деле рада за вас. Рада за тебя, я и не думала, что ты найдешь свое счастье в русской пленнице!
Благородный муж обнял ее.
- Спасибо тебе. Да хранит тебя Господь.
Дальше они пошли не спеша – дошли до кустов, за которыми стояла богато изукрашенная бронзовая колесница, запряженная парой лошадей. Их стерег конюх, босоногий юноша с длинными волосами. Возницы не было.
Патрикия ловко вскочила в колесницу и сама приняла у слуги поводья. Патрикий шагнул к ней, почти наперерез.
- Стоит ли тебе…
- Стоит! – Метаксия замахнулась хлыстом, точно хотела огреть им хозяина; он быстро отступил.
Она взглянула на него сверху вниз: обожгла взглядом, точно лозняком непослушного мальчишку.
- Стоит ли тебе!.. – сказала благородная жена сквозь зубы и умело, по-мужски, хлестнула лошадей; кони прянули и помчали, и скоро колесница исчезла в облаке пыли, в огнистых сумерках.
Сзади на тропинке послышался топот женских ног, и Фома схватил за плечо Желань, которая едва не наскочила на него. Наложница тяжело дышала.
- Не хотела мешать… хотела увидеть, как она отъедет, - проговорила Феодора.
Патрикий посмотрел ей в глаза. Она была так красива, когда боялась за других, когда любила.
- Что ты?..
Между темных бровей славянки появилась складка.
- Мы ее так обидели, господи! Она вовек не простит!
"Пожалуй", - мрачно подумал патрикий.
Обняв наложницу за талию, он повел ее в дом.
- Я так удивилась, когда увидела ее в колеснице, - взволнованно сказала Феодора, - а уж когда поняла, что она сама правит! Ведь это у вас нельзя?
- Это неприлично женщинам, - согласился Фома Нотарас. – Но на своей земле ей этого никто запретить не может.
Он оборвал листок с груши. Через несколько шагов прибавил:
- Как и на моей.
- Какая сила должна быть в руках, - восхищенно проговорила Феодора.
Фома рассмеялся. И вдруг легко поднял свою возлюбленную над головой; она счастливо взвизгнула, а он понес ее дальше, не опуская на землю.
- Не такая и большая сила, - улыбаясь ей, сказал грек. – Но женщина-возница должна быть очень сильна, ты права.
Феодора кивнула, рассматривая свои руки. На одной был шрам, точно ожог от веревки или ремешка, который быстро продернули через ладонь; и обе руки были исцарапаны.
- Верхом жене ездить тоже неприлично, - сказала она со вздохом.
Ромей поцеловал ее.
- Тебе я этого тоже не запрещу.
Он донес свою подругу до самого дома и поставил на ноги. Они посмотрели друг другу в глаза.
Их озарял добрый, домашний свет, но они не спешили входить.
- Мне страшно за госпожу, - вдруг сказала Феодора. – Она как будто добивается, чтобы ее все увидели… и наказали!
- Нет, - ответил патрикий.
Он крепко обнял свое утешение.
- Моя дорогая, несчастная Метаксия хочет, чтобы ее увидел Господь, - пробормотал он. – Чтобы Он взглянул на нашу землю хотя бы еще один раз.
* Принятое у византийцев античное наименование русских.
* Горючая смесь, применявшаяся в военных целях в средневековье. Впервые была употреблена в Византии в морских сражениях: точный состав греческого огня неизвестен.
- Нет, нужен гипс, а не глина, - сказала Метаксия, в который раз обойдя и придирчиво осмотрев влажно блестящую темную массу, из которой выступали покрытая покрывалом женская голова и плечи. Из-под покрывала показывался высокий лоб и волосы, разделенные пробором; шею обвивало ожерелье.
Метаксия повернулась к славянке и скользнула рукой по ее римской прическе, перевитой лентами.
- И зачем ты покрыла своей статуе волосы?
Она вдруг обхватила ее рукой за шею, приблизила лоб ко лбу и шепнула:
- Разве ты не знаешь, что покрывание волос означает подчинение мужу? Это он тебе так велел?
- Я сама хотела, - ответила Желань. – Так ходят честные жены и у вас, и у нас.
Она смотрела прямо, открыто.
- Разве не правда?
Метаксия едва заметно нахмурилась.
- Правда, - сказала она, - ты правильно говоришь.
- Госпожа, - тихо вмешался скульптор, ждавший в углу зала, в почтительном отдалении. – Нужно прикрыть статую! Иначе глина высохнет!
Метаксия повернулась к нему, уперев руки в бока.
- А скажи-ка мне, Олимп, почему ты не взял алебастр? Разве ты сам не видишь, что госпожа выходит как глиняный божок? Или у нее кожа темная, как у африканки?
Прежде, чем Олимп успел ответить, ответила изображенная.
- Мне хозяин рассказывал, что у нас на Руси раньше делали глиняных и деревянных божков – богинь с темными лицами, добрых к людям… Их носили с собой как обереги и укладывали с собой спать… Как и по сей день мы на Купалу костры жжем…
Славянка рассмеялась, поправив темно-русые волосы.
- В том худого нет, чтобы быть сделанным из глины… как Адам, - прибавила она, улыбаясь. – А белая статуя выйдет совсем как ваши, греческие, что поставлены по всему Царьграду на площадях и во дворцах. У вас и своих таких довольно!
Метаксия на несколько мгновений потеряла дар речи.
- Ах, вот как, - едва слышно сказала она наконец. – Хорошо же он тебя учит!
- Да уж не жалуюсь, - сказала Желань; и только тут почувствовала, что зарвалась.
- Олимп! Прикрой ее! – приказала Метаксия, взмахнув рукой, точно отгораживаясь от языческого идолища, которое неведомо как перенеслось на берега Босфора и немыслимым образом заявило на этих берегах свои права.
Скульптор поспешно набросил на статую мокрую ткань. Он перекрестился, затем сложил руки на животе, глядя на женщин с тревогой.
Патрикия покинула мастерскую, крупно, гневно шагая. Желань осталась в зале, глядя ей вслед с огорчением… и с каким-то превосходством.
Метаксия вышла в гостиную, где патрикий дожидался обеих женщин. Подойдя к двоюродному брату, она схватила его под руку. Фома Нотарас здесь, на отдыхе со своей наложницей, заметно окреп, заблистал мужским здоровьем и силой, и Метаксии это почему-то не понравилось.
- Пойдем поговорим! – бросила гостья ему в лицо.
Фома Нотарас вежливо усмехнулся, подчинившись. Он почему-то предчувствовал, что женщины поссорятся, обсуждая статую.
Родственники поднялись по лестнице в кабинет, где Метаксия набросилась на хозяина, точно фурия.
- Что ты наговорил этой несчастной язычнице? – воскликнула она.
- Феодора христианка, - спокойно ответил патрикий. – Такая же, как мы с тобой.
Метаксия рассмеялась, воздев руки.
- Святые угодники! Ты разве забыл, что христианство тавроскифов* таит в себе тьму и язычество, которые не истребить? Самое чистое, истинное христианство есть греческое… римское!
Фома усмехнулся.
- Оно чисто, ибо омыто кровью!
Метаксия вздрогнула.
- Да что с тобой?
- Ничего, - ответил патрикий, пристально глядя на родственницу. – Разве такие мои слова новость для тебя, сестра? Мы давно учили – и знаем, что дух Божий веет, где хочет…
Метаксия горько рассмеялась.
- И теперь он покинул нашу землю и унесся за море, к тавроскифам! Вы только послушайте этого благородного мужа! Темная язычница узнает историю своих предков из уст ромея – и заново учится у него поклоняться своим идолам!
Спокойное лицо Фомы Нотараса изменилось.
- Метаксия, если ты обидела Феодору в моем доме, немедленно ступай и извинись. Я знаю, что первая она никогда не затеяла бы ссору.
Он говорил ровно, учтиво, но так, что приготовленная резкость не сошла Метаксии на язык.
- Неслыханно, - пробормотала патрикия и, повернувшись, направилась обратно в мастерскую. Щеки ее покрыл румянец. Она не могла себе представить, как будет извиняться перед рабыней.
Однако этого не потребовалось – славянка сама вышла навстречу и поклонилась.
- Я тебя обидела, - сказала Желань, - прости на худом слове!
Метаксия растерянно застыла.
Потом она улыбнулась, хотя удивление все еще стояло в серых глазах. - Я не сержусь, - только и вымолвила гречанка.
Русская пленница держала себя как хозяйка, госпожа! Метаксия не знала, чем оскорбляться больше, - страннейшим идолопоклонством или непонятным достоинством, которое в Феодоре было таким же природным, неистребимым, как в них обеих женская сущность.
Потом Метаксия заставила себя улыбнуться почти сердечно и взяла славянку под руку.
- Не будем ссориться, христианам это не подобает, - сказала она.
Они вернулись в гостиную, где разделили трапезу. В зале зажгли огни, воскурили благовония, и ужин прошел почти по-семейному. Выпив вина, Метаксия искренне развеселилась и потешала друзей историями, приключившимися в ее поместье.
- Петрона опять забрался в конюшню, чтобы тайком свести лошадь и съездить в деревню к своей возлюбленной, - рассказывала патрикия, - но его заметили Овидий с Горацием, которые сидели в стойле! Они не посмели остановить вора – он разнес бы сплетню об этой парочке по всему дому! Даже глупый влюбленный мальчишка понял бы, что они там не стихи сочиняли!
Метаксия закатилась смехом.
- Я, похоже, одна в доме это заметила, потому что слежу за всем сама! Эти голубки так давно вместе, что я чуть не попросила отца Матфея их обвенчать!
Славянка знала, что Овидий с Горацием были молодые дворовые парни, развлекавшиеся сочинением стихов. Госпожа их хвалила и даже показывала какому-то столичному ценителю.
Феодора покраснела и нахмурилась, осмыслив слова патрикии. Хозяин вежливо улыбался ей – но не рассмеялся этой шутке. Метаксия перестала улыбаться.
- Да что с вами? Точно на похоронах!
- Метаксия, - начал Фома Нотарас. Он склонился к ней через стол – светлые волосы и браслет выше локтя заблестели золотом, точно он сам был прекрасным кумиром, богом, о котором очень заботились.
- Пожалуйста, не говори таких вещей при Феодоре. Она этого не любит и оскорбляется.
Метаксия несколько мгновений разглядывала родича так, точно перед ней был новый, неизвестный ей человек.
Потом хмыкнула и принялась за еду. До конца ужина никто за столом больше не произнес ни слова.
Потом Метаксия опять попросила хозяина выйти для разговора; теперь только взглядом. Феодора осталась одна за столом, точно наказанная. Она сидела как в кипятке.
До нее из-за двери доносились голоса хозяев, греческий язык, который она перестала понимать: ее господа говорили неразборчиво, быстро, как близкие люди, знающие друг о друге все.
- Что ты себе позволяешь, - говорила Метаксия, - что ты позволяешь ей со мной!..
- Тебя никто не обижал, - с холодной яростью отвечал патрикий. – Это мой дом, и мне решать, кого и как в нем почитать!
Метаксия рассмеялась и запустила руки в волнистые волосы, перехваченные двойным золотым обручем.
- Ну ты и фарисей, - проговорила она. – Твоя рабыня из тавроскифов еще хуже, чем мои Овидий и Гораций, а ты заступаешься за нее, как за жену! Уж не собираешься ли ты в самом деле жениться на ней? Не смеешь?...
Нотарас отвел глаза.
Метаксия понимающе усмехнулась.
- Неудобно, как и получить сейчас от нее ребенка! Ты умело восстановил против себя императора, а сейчас прячешься от его гнева! Ты знаешь, что если пойдешь с ней в храм, церковники тотчас донесут об этом Иоанну!
Патрикий закрыл лицо руками.
- Император посылал меня на исповедь, - пробормотал он, - но я не исповедуюсь уже очень давно. Ты знаешь, почему.
Метаксия недобро улыбнулась.
- Не только поэтому, - сказала она.
Вздохнула.
- Но и поэтому тоже.
Они вдруг обнялись, спрятав лицо друг у друга на плече.
- Прости, - прошептала Метаксия, - я вспыхиваю, как порох!
Патрикий улыбнулся и поднес к губам ее смуглую руку.
- Твоего неугасимого греческого огня* порою так не хватает моим спокойным водам.
Метаксия улыбнулась со слезами.
- А ребенок? Надеюсь, вы осторожны?
- Я осторожен, - ответил Фома.
Оба понимали, что слова о наследнике от рабыни-славянки, сказанные в письме, только шутка – и скорее грустная, чем злая.
- Идем успокоим ее, - сказала Метаксия. – Бедняжка, должно быть, уже в слезах!
Но Желань не плакала. Когда ее хозяева вернулись, она подняла на них темные сухие глаза, только щеки жарко пламенели.
Господин сразу сел к ней, прильнул; и Желань прижалась к его плечу, но не заплакала, а только сжала его руку. Метаксия недобро улыбнулась, глядя на это трогательное обоюдное мужество.
- Ну просто Орфей и Эвридика, - пробормотала она. – Не оглянись, певец!
- Простите, что мешаю, - громко сказала патрикия.
Фома оторвался от возлюбленной. У Феодоры же сделались большие неподвижные глаза.
- Мне пора, - спокойно сказала гречанка.
Хозяин поднялся из-за стола, красивый, счастливый как никогда, несмотря на все житейские бури:
- Метаксия, тебе приготовили комнату! Останься у нас на ночь, уже поздно!
Гречанка покачала головой.
- Нет, мой друг. Я и не собиралась оставаться, ты же знаешь, - сказала она. – Не бойся за меня, я прекрасно доеду.
Она встала и сняла со спинки свободного кресла гиматий из прозрачной золотистой ткани, в который сама задрапировалась, сколов на плече изумрудной фибулой в виде совы. Одеяние, сквозящее, словно летний вечер, было светлее лица и рук гречанки. Один конец гиматия она набросила на голову.
Подойдя к двери, патрикия остановилась и обернулась.
- Фома, проводи меня!
Он уже спешил к ней, простерев руки, точно пытаясь остановить. Взяв его под локоть, гостья вышла. Желань встала из-за стола, но не последовала за ними – ее хозяевам нужно было поговорить наедине.
Метаксия прошла половину садовой дорожки, не сказав ни слова; она так спешила, что патрикий едва поспевал. Наконец он остановил ее, едва ли не силой.
- Успокойся, сестра!
Метаксия повернулась к нему. Она была тиха, против ожиданий, - но глаза блестели, и щеки порозовели.
- Милый брат, я в самом деле рада за вас. Рада за тебя, я и не думала, что ты найдешь свое счастье в русской пленнице!
Благородный муж обнял ее.
- Спасибо тебе. Да хранит тебя Господь.
Дальше они пошли не спеша – дошли до кустов, за которыми стояла богато изукрашенная бронзовая колесница, запряженная парой лошадей. Их стерег конюх, босоногий юноша с длинными волосами. Возницы не было.
Патрикия ловко вскочила в колесницу и сама приняла у слуги поводья. Патрикий шагнул к ней, почти наперерез.
- Стоит ли тебе…
- Стоит! – Метаксия замахнулась хлыстом, точно хотела огреть им хозяина; он быстро отступил.
Она взглянула на него сверху вниз: обожгла взглядом, точно лозняком непослушного мальчишку.
- Стоит ли тебе!.. – сказала благородная жена сквозь зубы и умело, по-мужски, хлестнула лошадей; кони прянули и помчали, и скоро колесница исчезла в облаке пыли, в огнистых сумерках.
Сзади на тропинке послышался топот женских ног, и Фома схватил за плечо Желань, которая едва не наскочила на него. Наложница тяжело дышала.
- Не хотела мешать… хотела увидеть, как она отъедет, - проговорила Феодора.
Патрикий посмотрел ей в глаза. Она была так красива, когда боялась за других, когда любила.
- Что ты?..
Между темных бровей славянки появилась складка.
- Мы ее так обидели, господи! Она вовек не простит!
"Пожалуй", - мрачно подумал патрикий.
Обняв наложницу за талию, он повел ее в дом.
- Я так удивилась, когда увидела ее в колеснице, - взволнованно сказала Феодора, - а уж когда поняла, что она сама правит! Ведь это у вас нельзя?
- Это неприлично женщинам, - согласился Фома Нотарас. – Но на своей земле ей этого никто запретить не может.
Он оборвал листок с груши. Через несколько шагов прибавил:
- Как и на моей.
- Какая сила должна быть в руках, - восхищенно проговорила Феодора.
Фома рассмеялся. И вдруг легко поднял свою возлюбленную над головой; она счастливо взвизгнула, а он понес ее дальше, не опуская на землю.
- Не такая и большая сила, - улыбаясь ей, сказал грек. – Но женщина-возница должна быть очень сильна, ты права.
Феодора кивнула, рассматривая свои руки. На одной был шрам, точно ожог от веревки или ремешка, который быстро продернули через ладонь; и обе руки были исцарапаны.
- Верхом жене ездить тоже неприлично, - сказала она со вздохом.
Ромей поцеловал ее.
- Тебе я этого тоже не запрещу.
Он донес свою подругу до самого дома и поставил на ноги. Они посмотрели друг другу в глаза.
Их озарял добрый, домашний свет, но они не спешили входить.
- Мне страшно за госпожу, - вдруг сказала Феодора. – Она как будто добивается, чтобы ее все увидели… и наказали!
- Нет, - ответил патрикий.
Он крепко обнял свое утешение.
- Моя дорогая, несчастная Метаксия хочет, чтобы ее увидел Господь, - пробормотал он. – Чтобы Он взглянул на нашу землю хотя бы еще один раз.
* Принятое у византийцев античное наименование русских.
* Горючая смесь, применявшаяся в военных целях в средневековье. Впервые была употреблена в Византии в морских сражениях: точный состав греческого огня неизвестен.
Re: Ставрос
Глава 11
Иоанн стоял, бесчувственно подпирая плечами велоколепную стену, к которой боязно было даже прикоснуться, и слушая ангельское пение – должно быть, то же видели и слышали русские послы, перенявшие Христа у греков, и казалось им, что они не на земле, а на небе. Но Иоанн оставался равнодушен и к пению, и к дивному творению зодчих Константинополя, и к блистательным церемониям, которые сейчас совершались перед ним и были исполнены самой высокой святости.
Император и его приближенные кланялись образам, прикладывались к ним, придворные причащались – василевс причащался раньше, в алтаре, - а Иоанн и другие безбородые стояли у стен: в ожидании мановения руки любой высокой особы, чьими безотказными орудиями они были. Иоанн иногда взглядывал на лица прочих евнухов, среди которых не узнавал больше ни одного русского, - скопцы избегали говорить друг с другом, как и делать что-либо самовольно. И русский пленник спрашивал себя: знает ли хоть кто-нибудь из них, что происходит перед их глазами во дворце, в соборе? Навстречу какой судьбе владыки ведут их - и весь греческий народ, точно волов?
Служба кончилась. Василевс, в голубых глазах которого все еще блестели слезы умиления, в последний раз перекрестился, поклонился иконам, после чего направился к выходу из Софии. Придворные и воины вышли за ним. Евнухи безгласными тенями отделились от стен и последовали за своими хозяевами.
Иоанн, как было ему привычно, шел, не приближаясь, но и не упуская из виду священную особу императора: на случай, если император вдруг удостоит его вниманием и отдаст какой-нибудь приказ. Но на это надежды почти не было.
Надежды – послужить лютому врагу?..
Иоанн уже сам не знал, чего хочет: все желание жизни, счастья, казалось, умерло в нем в тот день, когда его лишили мужества. Но сгинуть здесь, вот так, безымянным, обесчещенным…
Отрок сжал руки в кулаки и едва слышно выбранился на родном языке.
Он плохо помнил бранные слова, которые мать раньше запрещала ему произносить; но и другие русские слова стали забываться.
Вдруг Иоанн почувствовал, что он не один – что кто-то внимательно смотрит на него и примеряет свою поступь к его шагам. Кто-то ему сочувствовал.
Иоанн вскинул голову, точно от удара; любое непрошеное внимание здесь сейчас казалось ему оскорблением. Юный евнух увидел женщину – да, рядом с ним, почти задевая его шелком платья, шла женщина в богатом одеянии с золотой каймой, в вышитом покрывале, опущенном на лицо; блестящие глаза ее были устремлены на него. Здесь, в свите василевса, было немало женщин, и некоторые, как и эта, покрыли не только волосы, но и всю фигуру; но ни одна из этих высоких жен не обращала на него внимания.
Его до сих пор только гоняли с пустяковыми поручениями томящиеся бездельем наложницы – некоторые сперва смеялись, дразнили его, а то и заигрывали, потому что раб был новый, юный и красивый; но Иоанн ни на что не отвечал. Он перенес несколько ударов от обиженных женщин, но потом его забыли и стали замечать не больше, чем других безбородых.
Только этого ему и хотелось.
Но сейчас, под взглядом неизвестной госпожи, он вдруг почувствовал сильное смущение – и желание, чтобы она открыла лицо или хотя бы заговорила с ним. Потому что он ощутил ее жалость к себе, а не охоту позабавиться человеком, христианской душой, - как здесь делали все.
Они вошли во дворец, и стража пропустила их, отдав честь императору. Незнакомка по-прежнему держалась рядом с Иоанном - и теперь ему стало понятно, что она хочет заговорить с ним; смущение евнуха сменилось испугом. Когда стража и другие свидетели остались позади, госпожа вдруг тронула его за плечо.
- Отойди со мной в сторону, - сказала она по-русски, хотя и с заметным греческим акцентом.
- Кто ты такая? – изумленно спросил Иоанн.
Спросил тоже по-русски, хотя был ошеломлен ее речью и не знал, что подумать.
Из-под вышитого покрывала раздался тихий смех.
- Что тебе до того, кто я? Здесь ты подчиняешься всем знатным, - сказала гречанка. – Идем со мной.
Иоанн ощутил стыд и гнев. Но, конечно, эта женщина была права; и он послушно отошел с ней к стене, где их скрыли тени.
А потом вдруг знатная госпожа положила руки ему на плечи и приблизила лицо; он различал под ее покрывалом только черноту волос и золото украшений. На него повеяло благовониями, как в церкви.
- Мальчик, я знаю, что ты очень несчастен.
- Я не мальчик! – воскликнул Иоанн, краснея от гнева; но и страх никуда не исчез, и смятение от близости гречанки и ее слов только увеличилось. Она засмеялась и потрепала его по плечу; рука была смуглая, теплая и, наверное, сильная.
- Я знаю, кто ты такой, - сказала она.
Вдруг женщина выпрямилась и открыла лицо. Она оказалась красивой и величавой, с золотыми подвесками у висков, с подведенными серыми глазами, которые смотрели на него почти с материнской нежностью. И с насмешкой, которой Иоанн никогда не видел у матери.
Гречанка еще раз склонилась к нему и погладила по щекам кончиками пальцев, нежными, как шелк.
- Я знаю, что ты безбородый раб, - прошептала она.
Иоанн чуть не задохнулся. Ему казалось, что он стал равнодушен к оскорблениям, – но теперь каждое слово неизвестной женщины возмущало его душу, как буря; точно его маленькой души было целое море...
- Раб - и что с того? – хрипло спросил он. – Тебе… Госпоже что-то угодно?
Гречанка положила ему руку на плечо. Она вдруг помрачнела.
- Я знаю, как тебе тяжело, - сказала она, и голос ее стал хриплым, как у него самого. – Знаю, каково так жить – когда никто не видит тебя, никто не хочет знать, чего хочешь ты, знать, что у тебя тоже есть душа…
Иоанн отступил.
- Что тебе нужно? – неприязненно спросил он.
Гречанка улыбнулась, ласково прищурив серые глаза.
- А тебе самому не нужно уже ничего?
Иоанн покачал головой. Он потупился, горячо молясь, чтобы все кончилось и эта женщина ушла.
Теплая рука опять погладила его по плечу.
- Они сделали тебя безбородым, - прошептала гречанка, - я знаю, что так они убивают все желания… Но ведь ты был сотворен мужчиной, и этого никому не изменить!
Иоанн ужасно смутился и рассердился сразу. Он шагнул к незнакомке, сжав кулаки; и знатная гречанка быстро отступила, точно испугавшись его пыла. Рассмеялась.
- Теперь я вижу мужчину!
Потом перестала улыбаться, хотя продолжала смотреть на него ласково, как будто познавая и поглощая глазами всего… как-то бессовестно смотреть. Иоанн еще больше застыдился; но ему вдруг очень захотелось удержать женщину, удержать этот ее взгляд.
А потом гречанка неожиданно спросила:
- Хочешь, я сделаю так, что тебя заметит император?
Иоанн вздрогнул и даже пошатнулся. Тряхнул русой кудрявой головой; нет, ему не мерещилось, и искусительница никуда не пропала.
- Зачем… Зачем я тебе нужен? – спросил он.
- Я сейчас увидела и пожалела тебя, - ответила госпожа. – Ты так юн, хорош собой, смышлен… Ты достоин служить самому василевсу!
Иоанн быстро заправил русые волосы за малиновые от стыда уши.
- Как ты узнала, что я смышлен… когда пожалела? - грубо отозвался он. – Ты ведь только теперь со мной говоришь!
Гречанка рассмеялась.
- И вправду смышлен.
Она склонилась к нему и легким, нежным движением обняла за плечи. Посмотрела в лицо.
- Ну, что скажешь, юноша? Хочешь служить василевсу? Ты сейчас не знаешь ничего и идешь, куда тебя тянут за твою веревку, - прошептала она. – А если постараешься, сможешь сделаться постельничим, будешь знать такие тайны, которых не знают даже сенаторы… даже советники императора…
Иоанн резко высвободился.
- Я тебе не верю, - сказал он. Евнух рассматривал узоры на полу, только бы не смотреть гречанке в лицо. – Ты смущаешь меня, ввергаешь в грех… и тоже хочешь тянуть за веревку, - прибавил он, взглянув на нее и тут же опустив глаза снова.
Она покачала головой.
- Русские люди - умные люди, я это знаю, - сказала искусительница. – Но я думала, что они еще и гордые, и смелые… Говоришь, я ввергаю тебя в грех? А разве не грех жить как безъязыкая скотина, забыв свой человеческий образ, образ и подобие Бога?
Микитка посмотрел на нее в упор.
- Я тебе не верю! Ты мне сейчас наплетешь чего угодно! – отрезал он. – Уйди… прошу тебя, - прибавил евнух, едва вспомнив, что говорит с высокой особой.
Гречанка сложила руки на груди, глядя на него с сочувственной усмешкой. Она не тронулась с места.
- Я знаю, что в городе у тебя есть мать, - сказала она.
Микитке стало жарко, в глазах потемнело.
- Как… Откуда? – прошептал он. – И что тебе до этого?
- Ну ты же видишь, что я большая госпожа, - ответила гречанка, все так же усмехаясь крупным ярким ртом и прищуренными глазами. – Я знаю много других больших людей. Твоя мать Евдокия служит у синьора Феличе, итальянского торговца... и как раз сейчас ее хозяин уехал в город Корон, что в Морее, по делам.
У Микитки задрожали колени. Он схватился за стену, и ощутил, как сильная смуглая рука опять поддержала его.
- Ты хочешь помочь нам увидеться? – прошептал он. – Но я не могу…
Голос его окреп, и он твердо закончил:
- Я не буду встречаться с матерью, она поймет, каков я стал.
Щеки его опять загорелись от стыда, но он опять прямо посмотрел соблазнительнице в глаза.
Та серьезно кивнула, даже не пытаясь его уговаривать.
- Встречаться не хочешь… но ведь ты хочешь, чтобы она была жива и здорова?
Микитка глубоко вздохнул, набираясь отваги и ярости.
- Ты грозишь моей матери?
Гречанка покачала головой.
- Я хочу ей помочь, - задумчиво ответила она, - взять под покровительство. Ведь мы с тобою одной православной веры, а ты знаешь, что за люди эти католики. Твоя мать сильная и честная женщина, но против их змеиной злобы она не выстоит… вы к такому не приучены и не можете привыкнуть.
Гречанка улыбнулась.
- Особенно когда ее хозяина рядом нет.
Микитка еще раз вздохнул, теперь пытаясь успокоиться. Он понимал, что женщина, с которой он говорит, очень опасна и, должно быть, вынашивает какие-то неправедные замыслы… понимал и то, что она действительно угрожает его матери и ему самому: может погубить их обоих, если он откажется ей служить. И эта гречанка знала, что он достаточно умен, чтобы услышать ее угрозы.
- Что я должен сделать? – спросил он.
Благородная госпожа погладила его по голове, улыбаясь ласково и одобрительно.
- Очень хорошо, Никита, ты умный юноша, - сказала она. – Пока ты не должен ничего… только служи, как и служил, но держи глаза и уши открытыми. Когда ты будешь нужен, тебе скажут… и ты поймешь.
Она сощурила глаза.
- Я обещаю тебе, что ты войдешь в покои императора, станешь большим человеком… а я не забываю своих обещаний, - прошептала госпожа. Кивнула самой себе, потом еще раз взглянула на него. – Жди.
Она откачнулась от стены и хотела уйти, занавесившись своим покрывалом, но Микитка догнал ее и дернул за рукав. Это вышло очень неловко, но гречанка тут же остановилась, положив руку ему на плечо.
- Что тебе, Никита?
- Как тебя зовут? Кто ты? – спросил он быстро.
Микитка понимал, что он очень глуп сейчас: разве ему скажут! Но юный евнух не рассуждал: он не только боялся этой женщины, а его еще и влекло к ней, к первому человеку здесь, который говорил с ним, отверженным рабом, как с человеком. Первой женщине после своей матери…
И гречанка это поняла.
- Меня зовут Феофано, - ответила она. – Как одну императрицу, у которой было несколько императоров*…
Микитка опять ощутил страх, сжавший сердце и желудок; а гречанка рассмеялась и, еще раз потрепав его по волосам, скрылась в толпе других придворных.
Микитка встряхнул головой и осмотрелся, точно очнувшись от наваждения. Он бы поверил, что это дьявольский искус, морок, - если бы уже не узнал, каковы гречины. Не слышал ли их кто-нибудь?
Но знатные и простые греки вокруг разговаривали, не обращая внимания на русского раба. Как хорошо иногда быть рабом, которого никто не замечает!
Микитка опустил плечи и пошел в сторону гинекея, где служил постоянно, - там ему наверняка попадет от стражи за то, что шлялся невесть где… Конечно, сбежать он все равно бы не мог - куда, как, когда кругом враги и хозяева?
Вдруг Микитка ощутил тоску, подумав, что ему, должно быть, перепала последняя ласка в жизни – от этой гречанки, которая, наверное, хуже всех, кого он здесь видел. И тогда перепала, когда он перестал надеяться на всякое участие и любовь.
Он медленно прошел по багряному коридору – порфировые колонны и ковры были цветом точно кровь. "Должно быть, на таких и крови не видно", - подумал евнух. Потом он приблизился к дверям гинекея, не поднимая головы.
Сбоку блеснули доспехи стражника-эскувита. Иоанн втянул голову в плечи.
Евнух услышал ругань, потом подзатыльник бросил его вперед, так что он чуть не влетел носом в приотворенные двери; едва удержавшись на ногах, Микитка встрепенулся и быстро обернулся на обидчика. В другой раз он стерпел бы и прошел, не сказав ни слова. А то только хуже изобьют.
Теперь же он воззрился в смуглое лицо, которое было так похоже на лицо его соблазнительницы, - все они тут одинаковы! Лицо грека вытянулось от удивления и насмешки под его взглядом.
- Ну, чего уставился, раб?
Микитка утер слезящиеся от боли глаза.
- Погоди ж ты! – сказал он по-русски. И быстро шагнул вперед, пока стражник не ударил его снова; хотя тот и не понял ничего.
Микитка отошел подальше и остановился, прижавшись пылающим лбом к холодному золоту стены. Он попытался осмыслить то, что с ним случилось сегодня.
Раньше вся его жизнь здесь была в том, чтобы терпеть… перетерпливать. Теперь он будет ждать.
Он не знал, лучше это или хуже, - но впервые за долгие недели плена почувствовал, что живет.
* Византийская императрица, супруга Романа II Молодого и Никифора II Фоки (X в.), по отзыву своего современника, историка Льва Диакона, женщина, "одинаково выделявшаяся своей красотой, способностями, честолюбием и порочностью". Феофано вместе со своим любовником и сподвижником Никифора Иоанном Цимисхием стала во главе заговора против Никифора, который был зверски убит.
Иоанн стоял, бесчувственно подпирая плечами велоколепную стену, к которой боязно было даже прикоснуться, и слушая ангельское пение – должно быть, то же видели и слышали русские послы, перенявшие Христа у греков, и казалось им, что они не на земле, а на небе. Но Иоанн оставался равнодушен и к пению, и к дивному творению зодчих Константинополя, и к блистательным церемониям, которые сейчас совершались перед ним и были исполнены самой высокой святости.
Император и его приближенные кланялись образам, прикладывались к ним, придворные причащались – василевс причащался раньше, в алтаре, - а Иоанн и другие безбородые стояли у стен: в ожидании мановения руки любой высокой особы, чьими безотказными орудиями они были. Иоанн иногда взглядывал на лица прочих евнухов, среди которых не узнавал больше ни одного русского, - скопцы избегали говорить друг с другом, как и делать что-либо самовольно. И русский пленник спрашивал себя: знает ли хоть кто-нибудь из них, что происходит перед их глазами во дворце, в соборе? Навстречу какой судьбе владыки ведут их - и весь греческий народ, точно волов?
Служба кончилась. Василевс, в голубых глазах которого все еще блестели слезы умиления, в последний раз перекрестился, поклонился иконам, после чего направился к выходу из Софии. Придворные и воины вышли за ним. Евнухи безгласными тенями отделились от стен и последовали за своими хозяевами.
Иоанн, как было ему привычно, шел, не приближаясь, но и не упуская из виду священную особу императора: на случай, если император вдруг удостоит его вниманием и отдаст какой-нибудь приказ. Но на это надежды почти не было.
Надежды – послужить лютому врагу?..
Иоанн уже сам не знал, чего хочет: все желание жизни, счастья, казалось, умерло в нем в тот день, когда его лишили мужества. Но сгинуть здесь, вот так, безымянным, обесчещенным…
Отрок сжал руки в кулаки и едва слышно выбранился на родном языке.
Он плохо помнил бранные слова, которые мать раньше запрещала ему произносить; но и другие русские слова стали забываться.
Вдруг Иоанн почувствовал, что он не один – что кто-то внимательно смотрит на него и примеряет свою поступь к его шагам. Кто-то ему сочувствовал.
Иоанн вскинул голову, точно от удара; любое непрошеное внимание здесь сейчас казалось ему оскорблением. Юный евнух увидел женщину – да, рядом с ним, почти задевая его шелком платья, шла женщина в богатом одеянии с золотой каймой, в вышитом покрывале, опущенном на лицо; блестящие глаза ее были устремлены на него. Здесь, в свите василевса, было немало женщин, и некоторые, как и эта, покрыли не только волосы, но и всю фигуру; но ни одна из этих высоких жен не обращала на него внимания.
Его до сих пор только гоняли с пустяковыми поручениями томящиеся бездельем наложницы – некоторые сперва смеялись, дразнили его, а то и заигрывали, потому что раб был новый, юный и красивый; но Иоанн ни на что не отвечал. Он перенес несколько ударов от обиженных женщин, но потом его забыли и стали замечать не больше, чем других безбородых.
Только этого ему и хотелось.
Но сейчас, под взглядом неизвестной госпожи, он вдруг почувствовал сильное смущение – и желание, чтобы она открыла лицо или хотя бы заговорила с ним. Потому что он ощутил ее жалость к себе, а не охоту позабавиться человеком, христианской душой, - как здесь делали все.
Они вошли во дворец, и стража пропустила их, отдав честь императору. Незнакомка по-прежнему держалась рядом с Иоанном - и теперь ему стало понятно, что она хочет заговорить с ним; смущение евнуха сменилось испугом. Когда стража и другие свидетели остались позади, госпожа вдруг тронула его за плечо.
- Отойди со мной в сторону, - сказала она по-русски, хотя и с заметным греческим акцентом.
- Кто ты такая? – изумленно спросил Иоанн.
Спросил тоже по-русски, хотя был ошеломлен ее речью и не знал, что подумать.
Из-под вышитого покрывала раздался тихий смех.
- Что тебе до того, кто я? Здесь ты подчиняешься всем знатным, - сказала гречанка. – Идем со мной.
Иоанн ощутил стыд и гнев. Но, конечно, эта женщина была права; и он послушно отошел с ней к стене, где их скрыли тени.
А потом вдруг знатная госпожа положила руки ему на плечи и приблизила лицо; он различал под ее покрывалом только черноту волос и золото украшений. На него повеяло благовониями, как в церкви.
- Мальчик, я знаю, что ты очень несчастен.
- Я не мальчик! – воскликнул Иоанн, краснея от гнева; но и страх никуда не исчез, и смятение от близости гречанки и ее слов только увеличилось. Она засмеялась и потрепала его по плечу; рука была смуглая, теплая и, наверное, сильная.
- Я знаю, кто ты такой, - сказала она.
Вдруг женщина выпрямилась и открыла лицо. Она оказалась красивой и величавой, с золотыми подвесками у висков, с подведенными серыми глазами, которые смотрели на него почти с материнской нежностью. И с насмешкой, которой Иоанн никогда не видел у матери.
Гречанка еще раз склонилась к нему и погладила по щекам кончиками пальцев, нежными, как шелк.
- Я знаю, что ты безбородый раб, - прошептала она.
Иоанн чуть не задохнулся. Ему казалось, что он стал равнодушен к оскорблениям, – но теперь каждое слово неизвестной женщины возмущало его душу, как буря; точно его маленькой души было целое море...
- Раб - и что с того? – хрипло спросил он. – Тебе… Госпоже что-то угодно?
Гречанка положила ему руку на плечо. Она вдруг помрачнела.
- Я знаю, как тебе тяжело, - сказала она, и голос ее стал хриплым, как у него самого. – Знаю, каково так жить – когда никто не видит тебя, никто не хочет знать, чего хочешь ты, знать, что у тебя тоже есть душа…
Иоанн отступил.
- Что тебе нужно? – неприязненно спросил он.
Гречанка улыбнулась, ласково прищурив серые глаза.
- А тебе самому не нужно уже ничего?
Иоанн покачал головой. Он потупился, горячо молясь, чтобы все кончилось и эта женщина ушла.
Теплая рука опять погладила его по плечу.
- Они сделали тебя безбородым, - прошептала гречанка, - я знаю, что так они убивают все желания… Но ведь ты был сотворен мужчиной, и этого никому не изменить!
Иоанн ужасно смутился и рассердился сразу. Он шагнул к незнакомке, сжав кулаки; и знатная гречанка быстро отступила, точно испугавшись его пыла. Рассмеялась.
- Теперь я вижу мужчину!
Потом перестала улыбаться, хотя продолжала смотреть на него ласково, как будто познавая и поглощая глазами всего… как-то бессовестно смотреть. Иоанн еще больше застыдился; но ему вдруг очень захотелось удержать женщину, удержать этот ее взгляд.
А потом гречанка неожиданно спросила:
- Хочешь, я сделаю так, что тебя заметит император?
Иоанн вздрогнул и даже пошатнулся. Тряхнул русой кудрявой головой; нет, ему не мерещилось, и искусительница никуда не пропала.
- Зачем… Зачем я тебе нужен? – спросил он.
- Я сейчас увидела и пожалела тебя, - ответила госпожа. – Ты так юн, хорош собой, смышлен… Ты достоин служить самому василевсу!
Иоанн быстро заправил русые волосы за малиновые от стыда уши.
- Как ты узнала, что я смышлен… когда пожалела? - грубо отозвался он. – Ты ведь только теперь со мной говоришь!
Гречанка рассмеялась.
- И вправду смышлен.
Она склонилась к нему и легким, нежным движением обняла за плечи. Посмотрела в лицо.
- Ну, что скажешь, юноша? Хочешь служить василевсу? Ты сейчас не знаешь ничего и идешь, куда тебя тянут за твою веревку, - прошептала она. – А если постараешься, сможешь сделаться постельничим, будешь знать такие тайны, которых не знают даже сенаторы… даже советники императора…
Иоанн резко высвободился.
- Я тебе не верю, - сказал он. Евнух рассматривал узоры на полу, только бы не смотреть гречанке в лицо. – Ты смущаешь меня, ввергаешь в грех… и тоже хочешь тянуть за веревку, - прибавил он, взглянув на нее и тут же опустив глаза снова.
Она покачала головой.
- Русские люди - умные люди, я это знаю, - сказала искусительница. – Но я думала, что они еще и гордые, и смелые… Говоришь, я ввергаю тебя в грех? А разве не грех жить как безъязыкая скотина, забыв свой человеческий образ, образ и подобие Бога?
Микитка посмотрел на нее в упор.
- Я тебе не верю! Ты мне сейчас наплетешь чего угодно! – отрезал он. – Уйди… прошу тебя, - прибавил евнух, едва вспомнив, что говорит с высокой особой.
Гречанка сложила руки на груди, глядя на него с сочувственной усмешкой. Она не тронулась с места.
- Я знаю, что в городе у тебя есть мать, - сказала она.
Микитке стало жарко, в глазах потемнело.
- Как… Откуда? – прошептал он. – И что тебе до этого?
- Ну ты же видишь, что я большая госпожа, - ответила гречанка, все так же усмехаясь крупным ярким ртом и прищуренными глазами. – Я знаю много других больших людей. Твоя мать Евдокия служит у синьора Феличе, итальянского торговца... и как раз сейчас ее хозяин уехал в город Корон, что в Морее, по делам.
У Микитки задрожали колени. Он схватился за стену, и ощутил, как сильная смуглая рука опять поддержала его.
- Ты хочешь помочь нам увидеться? – прошептал он. – Но я не могу…
Голос его окреп, и он твердо закончил:
- Я не буду встречаться с матерью, она поймет, каков я стал.
Щеки его опять загорелись от стыда, но он опять прямо посмотрел соблазнительнице в глаза.
Та серьезно кивнула, даже не пытаясь его уговаривать.
- Встречаться не хочешь… но ведь ты хочешь, чтобы она была жива и здорова?
Микитка глубоко вздохнул, набираясь отваги и ярости.
- Ты грозишь моей матери?
Гречанка покачала головой.
- Я хочу ей помочь, - задумчиво ответила она, - взять под покровительство. Ведь мы с тобою одной православной веры, а ты знаешь, что за люди эти католики. Твоя мать сильная и честная женщина, но против их змеиной злобы она не выстоит… вы к такому не приучены и не можете привыкнуть.
Гречанка улыбнулась.
- Особенно когда ее хозяина рядом нет.
Микитка еще раз вздохнул, теперь пытаясь успокоиться. Он понимал, что женщина, с которой он говорит, очень опасна и, должно быть, вынашивает какие-то неправедные замыслы… понимал и то, что она действительно угрожает его матери и ему самому: может погубить их обоих, если он откажется ей служить. И эта гречанка знала, что он достаточно умен, чтобы услышать ее угрозы.
- Что я должен сделать? – спросил он.
Благородная госпожа погладила его по голове, улыбаясь ласково и одобрительно.
- Очень хорошо, Никита, ты умный юноша, - сказала она. – Пока ты не должен ничего… только служи, как и служил, но держи глаза и уши открытыми. Когда ты будешь нужен, тебе скажут… и ты поймешь.
Она сощурила глаза.
- Я обещаю тебе, что ты войдешь в покои императора, станешь большим человеком… а я не забываю своих обещаний, - прошептала госпожа. Кивнула самой себе, потом еще раз взглянула на него. – Жди.
Она откачнулась от стены и хотела уйти, занавесившись своим покрывалом, но Микитка догнал ее и дернул за рукав. Это вышло очень неловко, но гречанка тут же остановилась, положив руку ему на плечо.
- Что тебе, Никита?
- Как тебя зовут? Кто ты? – спросил он быстро.
Микитка понимал, что он очень глуп сейчас: разве ему скажут! Но юный евнух не рассуждал: он не только боялся этой женщины, а его еще и влекло к ней, к первому человеку здесь, который говорил с ним, отверженным рабом, как с человеком. Первой женщине после своей матери…
И гречанка это поняла.
- Меня зовут Феофано, - ответила она. – Как одну императрицу, у которой было несколько императоров*…
Микитка опять ощутил страх, сжавший сердце и желудок; а гречанка рассмеялась и, еще раз потрепав его по волосам, скрылась в толпе других придворных.
Микитка встряхнул головой и осмотрелся, точно очнувшись от наваждения. Он бы поверил, что это дьявольский искус, морок, - если бы уже не узнал, каковы гречины. Не слышал ли их кто-нибудь?
Но знатные и простые греки вокруг разговаривали, не обращая внимания на русского раба. Как хорошо иногда быть рабом, которого никто не замечает!
Микитка опустил плечи и пошел в сторону гинекея, где служил постоянно, - там ему наверняка попадет от стражи за то, что шлялся невесть где… Конечно, сбежать он все равно бы не мог - куда, как, когда кругом враги и хозяева?
Вдруг Микитка ощутил тоску, подумав, что ему, должно быть, перепала последняя ласка в жизни – от этой гречанки, которая, наверное, хуже всех, кого он здесь видел. И тогда перепала, когда он перестал надеяться на всякое участие и любовь.
Он медленно прошел по багряному коридору – порфировые колонны и ковры были цветом точно кровь. "Должно быть, на таких и крови не видно", - подумал евнух. Потом он приблизился к дверям гинекея, не поднимая головы.
Сбоку блеснули доспехи стражника-эскувита. Иоанн втянул голову в плечи.
Евнух услышал ругань, потом подзатыльник бросил его вперед, так что он чуть не влетел носом в приотворенные двери; едва удержавшись на ногах, Микитка встрепенулся и быстро обернулся на обидчика. В другой раз он стерпел бы и прошел, не сказав ни слова. А то только хуже изобьют.
Теперь же он воззрился в смуглое лицо, которое было так похоже на лицо его соблазнительницы, - все они тут одинаковы! Лицо грека вытянулось от удивления и насмешки под его взглядом.
- Ну, чего уставился, раб?
Микитка утер слезящиеся от боли глаза.
- Погоди ж ты! – сказал он по-русски. И быстро шагнул вперед, пока стражник не ударил его снова; хотя тот и не понял ничего.
Микитка отошел подальше и остановился, прижавшись пылающим лбом к холодному золоту стены. Он попытался осмыслить то, что с ним случилось сегодня.
Раньше вся его жизнь здесь была в том, чтобы терпеть… перетерпливать. Теперь он будет ждать.
Он не знал, лучше это или хуже, - но впервые за долгие недели плена почувствовал, что живет.
* Византийская императрица, супруга Романа II Молодого и Никифора II Фоки (X в.), по отзыву своего современника, историка Льва Диакона, женщина, "одинаково выделявшаяся своей красотой, способностями, честолюбием и порочностью". Феофано вместе со своим любовником и сподвижником Никифора Иоанном Цимисхием стала во главе заговора против Никифора, который был зверски убит.
Re: Ставрос
Глава 12
Фома Нотарас подал руку Феодоре, помогая ей выйти из повозки. Она могла бы выйти и без поддержки, но приняла руку хозяина и благодарно улыбнулась ему. Они остановились в виду большого поместья – за деревьями и пшеничными полями скрывался белый особняк, похожий на тот, что принадлежал патрикию: но это только на первый взгляд.
Грек и славянка, взявшись под руки, направились вперед, по дороге, вдоль которой, как часовые, стояли акации, сразу затенившие белые фигуры людей.
- Никогда не думала, что Метаксия захочет так оградить дорогу, - со смущенной усмешкой сказала Феодора, обернувшись на своего покровителя. – Она ведь порядка не любит!
- Эти акации сажал еще ее прадед, а она чтит его память, - сдержанно сказал ромей.
Феодора пожала плечами.
- Не знаю, господин… Была бы я на ее месте, я бы срубила все, что мне не по душе. У нее ведь нрав бурливый, а со смертью мужа и руки развязаны!
Ромей остро посмотрел на свою наложницу. Потом рассмеялся, хотя серые глаза блеснули неприязнью.
- Метаксия любит, чтобы деревья ее приветствовали, как императорская стража, - любит, чтобы порядок в имении соблюдали все, кроме нее… - ответил Фома. - Ей следовало бы родиться мужчиной!
Феодора улыбнулась.
- Ну нет, - ответила славянка.
А про себя подумала:
"Мужчина много чего не может, что может женщина, - спасибо и низкий поклон госпоже, что научила меня!"
Они в молчании шли по дороге прямо к дому. Их никто не приветствовал – но это было и неудивительно: они не предупреждали, что приедут. Фоме Нотарасу понадобилось навестить свою родственницу по делу, которого Феодора не знала, - наложница просила, чтобы он оставил ее дома, опасаясь гнева благородной госпожи, но патрикий не пожелал с нею расставаться.
"Сестре придется примириться с тем, кого я себе выбрал", - сказал он.
Феодоре порою только и хотелось, что мирить этих благородных людей, у которых насчитывалось слишком много врагов, чтобы ссориться еще и друг с другом; но их нрав ей было не смягчить, а взаимных их дел и обязательств она до сих пор почти не знала...
Когда они приблизились к дому, патрикий нахмурился. Пока они шли, он замечал работников в поле, слуг; конечно, гостей могли не увидеть, но теперь это было подозрительно… и даже оскорбительно, как бы он ни поссорился со своей сестрой при расставании.
- Подожди здесь, - велел он наложнице и один поднялся по ступеням дома. Остановившись перед дверью, оправил свой гиматий и тунику, пробежав белыми пальцами по застежкам, лентам и складкам. Феодора до сих пор удивлялась искусству греков укладывать свои одежды по фигуре. Потом патрикий громко постучал в дверь медным кольцом-колотушкой.
Довольно долго ему не отвечали; Феодора разволновалась, а ее господин отступил, сложив руки за спиной. По движению его плеч под плащом славянка поняла, что Фома гневается. Но тут дверь отворилась с тихим скрипом.
Показался старик благородного облика, похожий на их собственного управителя. Несколько мгновений он смотрел на патрикия, словно бы остолбенев от изумления, - потом низко склонился перед нежданным гостем.
- Привет тебе, господин!
Однако войти он патрикия не приглашал, как и не спешил распахнуть дверь. Фома Нотарас схватился за дверь, словно бы препятствуя тому, чтобы ее закрыли:
- Что это значит, Сотир? Где госпожа?
- Госпожи нет, - ответил управитель.
Он расправил плечи, глядя патрикию в лицо. Старик был очень чем-то встревожен, и хотя боялся благородного мужа, было видно, что не впустил бы его, если бы получил такой приказ. Фома двинулся вперед.
Сотир попятился, пропуская его в дом. Фома остановился и повернул красивую белокурую голову к своей подруге, пригласив ее властным жестом.
- Иди сюда!
Феодора, набравшись храбрости, медленно поднялась по ступеням и вошла в дом, похожий на холодный склеп – в которых, как рассказывал ей хозяин, благородные ромеи хоронили своих мертвецов вместо честных могил, вместо предания матери-земле…
Фома крепко взял ее под руку.
- Сейчас мы увидим, что здесь творится, - сказал он. Снова обратил взор на управителя, точно мог повелевать им наравне с Метаксией Калокир.
- Где твоя госпожа, Сотир?
- Она уехала четыре дня назад, - ответил старый слуга. – Мы не знаем, куда.
Под взглядом патрикия он низко склонил голову и сложил руки, словно бы покаянно, - но остался нем.
Фома Нотарас совсем свел брови, глядя на его непроницаемое лицо. Потом усмехнулся.
- Хвалю твою преданность, Сотир! Что ж, надеюсь, ты не откажешь нам в гостеприимстве? Или госпожа не велела пускать меня на порог?
- Что ты, господин!
Старик засуетился. Теперь, когда опасность отодвинулась, он стал любезен. Управитель жестом показал гостям, куда пройти, проводив их в такой же нежилой, хотя и прекрасно убранный, зал.
- Прошу вас сесть, - он указал на высокие деревянные кресла. Феодора села в одно из них и ощутила себя словно бы в холодных мертвых объятиях. Она сжала губы, чувствуя, что добром это посещение не кончится.
Управитель кликнул слуг, которые принесли лампы, так что гостиная приветливо осветилась. Патрикию и его спутнице подали вина. Фома несколько мгновений смотрел на кубок, который взял в руки, - потом с холодным выражением выпил.
Феодора медленно пила, не глядя ни на что вокруг, - только еще более чутко прислушивалась.
Покончив со своим вином, патрикий встал, оправив одежды. Он обернулся к наложнице.
- Посиди здесь!
Феодора посмотрела на него, словно бы недоуменно и сердито, - а потом вдруг тоже встала.
- Я хочу пойти с тобой! – сказала она. – Что-то случилось, мне тоже нужно знать! Я не могу тебя оставить!
Ромей начал гневаться, услышав ее слова, - но когда она закончила тревогой за него, смягчился.
- Хорошо, - сказал он. – Идем.
Он взял ее за руку и обернулся к Сотиру, который все это время ждал внимания господ, стоя у спинки его кресла.
- Проводи нас в кабинет госпожи.
Феодора смекнула, что, должно быть, патрикий уже не в первый раз так распоряжается здесь. Она знала, что греческие женщины значительно более подчинены своим родственникам-мужчинам, чем русские, - слуга русской госпожи не допустил бы подобного самоуправства в чужом хозяйстве, пусть даже и со стороны родича. Или просто такое между двоюродным братом и сестрой позволялось всегда…
Однако теперь это было им на руку. Сотир, не споря, почтительно повел гостей вверх по лестнице, светя им лампой.
- Сюда, пожалуйста.
Старик отворил дверь, и Феодора оказалась в месте, в каком еще ни разу не бывала, - господин до сих пор не допускал ее в свой кабинет, хотя часто давал ей книги и свитки из библиотеки, которые любил разбирать и растолковывать вместе с ней.
Управитель поставил лампу на стол, и она осветила его резные края, полированное дерево стен, бархатные занавеси с кистями. Полки со свитками и, реже, книгами в дорогом переплете занимали всю стену напротив входа. Метаксия любила это место, пожалуй, едва ли не больше всего, подумала Феодора.
Ей вдруг стало стыдно за своего господина и за себя – что она вместе с ним пошла на такое дело; но ромей больше не обращал на нее внимания. Он начал совершенно неучтиво перебирать бумаги хозяйки, приказывая Сотиру светить; Феодора видела склоненную белокурую голову, сверканье платья, когда двигались руки, слышала шуршанье пергамента. Потом наложница попятилась и села на табурет в углу. Она отвернулась, не желая больше наблюдать это бесчинство, если уж не могла ему помешать.
Наконец Фома Нотарас выпрямился, по-видимому, удовлетворенный – но одновременно он был и разгневан. Он гневался куда тише двоюродной сестры – но потому его недовольство было и страшнее…
- Идем, - приказал он наложнице, подойдя к ней. Она встала с места, не сказав ни слова. Патрикий быстро вышел из кабинета, принуждая ее спешить и не оставляя времени подумать. Но думать ей было не над чем: она ничего не знала, как всегда!
Нотарас быстро, почти бегом, спустился по лестнице и вернулся в гостиную. Там он упал в кресло, переводя дух. Он едва мог совладать с собой; вот пальцы побарабанили по подлокотнику, потом рука сжалась в кулак, так что старинные перстни впились в кожу.
- Вина! – приказал патрикий испуганному Сотиру.
Феодора еще не успела сесть. Она встрепенулась и схватила Сотира за рукав:
- Сотир, пожалуйста, принеси закусить, а не то господин напьется! – прошептала она на ухо благородному старику.
Нотарас еще ни разу не напивался при ней так, чтобы забыть себя, - и тем страшнее было представить, как это случится. Но не теперь.
Сотир серьезно кивнул славянке и улыбнулся, успокоив ее жестом. Патрикий мрачно смотрел со своего места на них обоих, но ничего не говорил.
Сотир направился к выходу из зала, и его белая одежда и белая голова скрылись в дверях. Фома взглянул на свою спутницу.
- Что ты ему сказала?
- Попросила и мне принести выпить, - ответила она.
Фома опустил голову.
- Тебе не надо.
Он взялся за голову, и тут Желань поняла – стряслось что-то нешуточное.
Вернулся Сотир, неся на подносе два кубка с вином, белые хлебцы и блюдо черного винограда. Посмотрев в глаза ободренной Желани, он едва заметно улыбнулся. Взяв свой кубок, гостья увидела, что вино разбавлено – и что ее господину, конечно, подали такое же…
Фома Нотарас принялся мрачно цедить вино; сделав несколько глотков, он забросил в рот сразу горсть винограда, разжевал и проглотил. Потом отставил кубок и закрыл лицо руками.
Просидев так несколько мгновений, он допил вино. Феодора даже не притронулась к своему угощению, глядя на поведение хозяина.
Потом Фома встал и, без слов подняв ее с кресла, крепко взял наложницу за руку и повел прочь. Седовласый Сотир следовал за ними со скорбным видом – и видом исполненного долга… Перед кем?
На самом пороге высокий гость обернулся и положил руку старику на плечо.
- Спасибо тебе за твою верность госпоже, Сотир… Надеюсь, ты не скажешь и ей, что я приезжал?
Сотир улыбнулся с видом сожаления.
- Она поймет.
Патрикий кивнул.
- Метаксия слишком умна, - сказал он, - но это было бы еще полбеды, не будь она так же и самолюбива. Для женщины ее желания и домашние обиды куда легче могут затмить весь мир, чем для мужчины, в чем бы эти желания ни состояли!
Управитель кивнул.
Потом посмотрел на обоих господ и поклонился.
- Я провожу вас.
- Не стоит, - ответил Фома. – Ты исполнил свой долг.
Он медленно спустился по ступенькам, ведя за собой Феодору. Они в полном молчании прошли акациевую аллею, потом сели в повозку. Возница тронул лошадей без приказа.
Несколько минут Фома и Желань молчали – потом Желань решилась подать голос, поняв, что сам хозяин с ней не заговорит.
- Что случилось, Фома?
Он словно бы даже не обратил внимания, что его назвали по имени, - хотя это случалось нечасто и было знаком доверия. Феодора заметила, что это льстило ему больше, чем обращение, как к господину.
Нотарас протянул руку и привлек ее к себе.
- Метаксия действует без моего ведома и воли… Она уехала в Константинополь. Для нас это просто ужасно, Феодора.
Он неожиданно сжал свою подругу в объятиях и спрятал лицо у нее на плече, как у матери – или у Метаксии, когда та была рядом. Господин, до сих пор каменно спокойный, вдруг всхлипнул наложнице в шею. Феодора на несколько мгновений застыла от испуга, но потом обняла его и стала поглаживать по волосам.
Он тяжело дышал.
- Моя сестра решилась убить императора.
Желань давно думала об этом, таила в глубине сердца, потому что такое не говорилось вслух, особенно среди греков. Но потом она собралась с духом и обхватила светлую голову господина обеими руками, отстранив от себя. Она посмотрела ему в глаза – он плакал.
- Но разве… Разве вы не задумывали это с самого начала? – тихо спросила славянка. – Убийство императора? – прошептала она.
Патрикий покачал головой. Потом опять припал к ней на плечо.
- Это была самая крайняя мера, - прошептал Фома Нотарас. – Метаксия всегда стояла за убийство и подталкивала к этому меня, хотя я воспрещал ей… Она не понимала, сколько сил приложил император, а с ним и его советники, чтобы установить мир с католиками! Я люблю итальянцев не больше, чем она, – но смерть Иоанна Палеолога уничтожит последнюю гармонию в империи и надежду, что мы противостоим османам. Иоанн - миротворец, Феодора; быть может, именно потому, что стар… Но этим-то он и хорош для нас!
Феодоре стало очень страшно. Она ощутила, будто их маленький элисий вдруг превратился в болото, в котором они топили друг друга вместо того, чтобы вытягивать. Господин сжимал ей руки и задыхался, пытаясь совладать со своими чувствами.
- Но ведь Иоанну уже и так недолго осталось? – прошептала славянка. Фома засмеялся.
- Иоанну, пожалуй, осталось недолго… Но мы еще слишком молоды, чтобы умирать!
- Нас… Нас казнят за это, если раскроют заговор… да? – прошептала Феодора. – О чем же тогда думала Метаксия?
Фома пожал плечами с отвращением.
Он высвободился из объятий наложницы, но по-прежнему сжимал ее руки. Патрикий смотрел в сторону.
- У нее собственные счеты с католиками, - сказал он. – Это семейное дело.
Он улыбнулся.
- Итальянцы тоже мстят за весь род – и всему роду своих врагов… Но разве сейчас такое время?
Желань прижала руку к груди.
- А мне кажется, тут другое, - прошептала она. Кашлянула и закончила в полный голос:
- Мне кажется, Фома, что Метаксия хочет захватить власть в империи. Предупредить приход законного государя. Сейчас она еще может успеть… пока Константин ничего не знает, не правда ли?
Патрикий смотрел на нее онемев. Желань кивнула.
- Да, да… Уж я-то догадываюсь!
Фома Нотарас подал руку Феодоре, помогая ей выйти из повозки. Она могла бы выйти и без поддержки, но приняла руку хозяина и благодарно улыбнулась ему. Они остановились в виду большого поместья – за деревьями и пшеничными полями скрывался белый особняк, похожий на тот, что принадлежал патрикию: но это только на первый взгляд.
Грек и славянка, взявшись под руки, направились вперед, по дороге, вдоль которой, как часовые, стояли акации, сразу затенившие белые фигуры людей.
- Никогда не думала, что Метаксия захочет так оградить дорогу, - со смущенной усмешкой сказала Феодора, обернувшись на своего покровителя. – Она ведь порядка не любит!
- Эти акации сажал еще ее прадед, а она чтит его память, - сдержанно сказал ромей.
Феодора пожала плечами.
- Не знаю, господин… Была бы я на ее месте, я бы срубила все, что мне не по душе. У нее ведь нрав бурливый, а со смертью мужа и руки развязаны!
Ромей остро посмотрел на свою наложницу. Потом рассмеялся, хотя серые глаза блеснули неприязнью.
- Метаксия любит, чтобы деревья ее приветствовали, как императорская стража, - любит, чтобы порядок в имении соблюдали все, кроме нее… - ответил Фома. - Ей следовало бы родиться мужчиной!
Феодора улыбнулась.
- Ну нет, - ответила славянка.
А про себя подумала:
"Мужчина много чего не может, что может женщина, - спасибо и низкий поклон госпоже, что научила меня!"
Они в молчании шли по дороге прямо к дому. Их никто не приветствовал – но это было и неудивительно: они не предупреждали, что приедут. Фоме Нотарасу понадобилось навестить свою родственницу по делу, которого Феодора не знала, - наложница просила, чтобы он оставил ее дома, опасаясь гнева благородной госпожи, но патрикий не пожелал с нею расставаться.
"Сестре придется примириться с тем, кого я себе выбрал", - сказал он.
Феодоре порою только и хотелось, что мирить этих благородных людей, у которых насчитывалось слишком много врагов, чтобы ссориться еще и друг с другом; но их нрав ей было не смягчить, а взаимных их дел и обязательств она до сих пор почти не знала...
Когда они приблизились к дому, патрикий нахмурился. Пока они шли, он замечал работников в поле, слуг; конечно, гостей могли не увидеть, но теперь это было подозрительно… и даже оскорбительно, как бы он ни поссорился со своей сестрой при расставании.
- Подожди здесь, - велел он наложнице и один поднялся по ступеням дома. Остановившись перед дверью, оправил свой гиматий и тунику, пробежав белыми пальцами по застежкам, лентам и складкам. Феодора до сих пор удивлялась искусству греков укладывать свои одежды по фигуре. Потом патрикий громко постучал в дверь медным кольцом-колотушкой.
Довольно долго ему не отвечали; Феодора разволновалась, а ее господин отступил, сложив руки за спиной. По движению его плеч под плащом славянка поняла, что Фома гневается. Но тут дверь отворилась с тихим скрипом.
Показался старик благородного облика, похожий на их собственного управителя. Несколько мгновений он смотрел на патрикия, словно бы остолбенев от изумления, - потом низко склонился перед нежданным гостем.
- Привет тебе, господин!
Однако войти он патрикия не приглашал, как и не спешил распахнуть дверь. Фома Нотарас схватился за дверь, словно бы препятствуя тому, чтобы ее закрыли:
- Что это значит, Сотир? Где госпожа?
- Госпожи нет, - ответил управитель.
Он расправил плечи, глядя патрикию в лицо. Старик был очень чем-то встревожен, и хотя боялся благородного мужа, было видно, что не впустил бы его, если бы получил такой приказ. Фома двинулся вперед.
Сотир попятился, пропуская его в дом. Фома остановился и повернул красивую белокурую голову к своей подруге, пригласив ее властным жестом.
- Иди сюда!
Феодора, набравшись храбрости, медленно поднялась по ступеням и вошла в дом, похожий на холодный склеп – в которых, как рассказывал ей хозяин, благородные ромеи хоронили своих мертвецов вместо честных могил, вместо предания матери-земле…
Фома крепко взял ее под руку.
- Сейчас мы увидим, что здесь творится, - сказал он. Снова обратил взор на управителя, точно мог повелевать им наравне с Метаксией Калокир.
- Где твоя госпожа, Сотир?
- Она уехала четыре дня назад, - ответил старый слуга. – Мы не знаем, куда.
Под взглядом патрикия он низко склонил голову и сложил руки, словно бы покаянно, - но остался нем.
Фома Нотарас совсем свел брови, глядя на его непроницаемое лицо. Потом усмехнулся.
- Хвалю твою преданность, Сотир! Что ж, надеюсь, ты не откажешь нам в гостеприимстве? Или госпожа не велела пускать меня на порог?
- Что ты, господин!
Старик засуетился. Теперь, когда опасность отодвинулась, он стал любезен. Управитель жестом показал гостям, куда пройти, проводив их в такой же нежилой, хотя и прекрасно убранный, зал.
- Прошу вас сесть, - он указал на высокие деревянные кресла. Феодора села в одно из них и ощутила себя словно бы в холодных мертвых объятиях. Она сжала губы, чувствуя, что добром это посещение не кончится.
Управитель кликнул слуг, которые принесли лампы, так что гостиная приветливо осветилась. Патрикию и его спутнице подали вина. Фома несколько мгновений смотрел на кубок, который взял в руки, - потом с холодным выражением выпил.
Феодора медленно пила, не глядя ни на что вокруг, - только еще более чутко прислушивалась.
Покончив со своим вином, патрикий встал, оправив одежды. Он обернулся к наложнице.
- Посиди здесь!
Феодора посмотрела на него, словно бы недоуменно и сердито, - а потом вдруг тоже встала.
- Я хочу пойти с тобой! – сказала она. – Что-то случилось, мне тоже нужно знать! Я не могу тебя оставить!
Ромей начал гневаться, услышав ее слова, - но когда она закончила тревогой за него, смягчился.
- Хорошо, - сказал он. – Идем.
Он взял ее за руку и обернулся к Сотиру, который все это время ждал внимания господ, стоя у спинки его кресла.
- Проводи нас в кабинет госпожи.
Феодора смекнула, что, должно быть, патрикий уже не в первый раз так распоряжается здесь. Она знала, что греческие женщины значительно более подчинены своим родственникам-мужчинам, чем русские, - слуга русской госпожи не допустил бы подобного самоуправства в чужом хозяйстве, пусть даже и со стороны родича. Или просто такое между двоюродным братом и сестрой позволялось всегда…
Однако теперь это было им на руку. Сотир, не споря, почтительно повел гостей вверх по лестнице, светя им лампой.
- Сюда, пожалуйста.
Старик отворил дверь, и Феодора оказалась в месте, в каком еще ни разу не бывала, - господин до сих пор не допускал ее в свой кабинет, хотя часто давал ей книги и свитки из библиотеки, которые любил разбирать и растолковывать вместе с ней.
Управитель поставил лампу на стол, и она осветила его резные края, полированное дерево стен, бархатные занавеси с кистями. Полки со свитками и, реже, книгами в дорогом переплете занимали всю стену напротив входа. Метаксия любила это место, пожалуй, едва ли не больше всего, подумала Феодора.
Ей вдруг стало стыдно за своего господина и за себя – что она вместе с ним пошла на такое дело; но ромей больше не обращал на нее внимания. Он начал совершенно неучтиво перебирать бумаги хозяйки, приказывая Сотиру светить; Феодора видела склоненную белокурую голову, сверканье платья, когда двигались руки, слышала шуршанье пергамента. Потом наложница попятилась и села на табурет в углу. Она отвернулась, не желая больше наблюдать это бесчинство, если уж не могла ему помешать.
Наконец Фома Нотарас выпрямился, по-видимому, удовлетворенный – но одновременно он был и разгневан. Он гневался куда тише двоюродной сестры – но потому его недовольство было и страшнее…
- Идем, - приказал он наложнице, подойдя к ней. Она встала с места, не сказав ни слова. Патрикий быстро вышел из кабинета, принуждая ее спешить и не оставляя времени подумать. Но думать ей было не над чем: она ничего не знала, как всегда!
Нотарас быстро, почти бегом, спустился по лестнице и вернулся в гостиную. Там он упал в кресло, переводя дух. Он едва мог совладать с собой; вот пальцы побарабанили по подлокотнику, потом рука сжалась в кулак, так что старинные перстни впились в кожу.
- Вина! – приказал патрикий испуганному Сотиру.
Феодора еще не успела сесть. Она встрепенулась и схватила Сотира за рукав:
- Сотир, пожалуйста, принеси закусить, а не то господин напьется! – прошептала она на ухо благородному старику.
Нотарас еще ни разу не напивался при ней так, чтобы забыть себя, - и тем страшнее было представить, как это случится. Но не теперь.
Сотир серьезно кивнул славянке и улыбнулся, успокоив ее жестом. Патрикий мрачно смотрел со своего места на них обоих, но ничего не говорил.
Сотир направился к выходу из зала, и его белая одежда и белая голова скрылись в дверях. Фома взглянул на свою спутницу.
- Что ты ему сказала?
- Попросила и мне принести выпить, - ответила она.
Фома опустил голову.
- Тебе не надо.
Он взялся за голову, и тут Желань поняла – стряслось что-то нешуточное.
Вернулся Сотир, неся на подносе два кубка с вином, белые хлебцы и блюдо черного винограда. Посмотрев в глаза ободренной Желани, он едва заметно улыбнулся. Взяв свой кубок, гостья увидела, что вино разбавлено – и что ее господину, конечно, подали такое же…
Фома Нотарас принялся мрачно цедить вино; сделав несколько глотков, он забросил в рот сразу горсть винограда, разжевал и проглотил. Потом отставил кубок и закрыл лицо руками.
Просидев так несколько мгновений, он допил вино. Феодора даже не притронулась к своему угощению, глядя на поведение хозяина.
Потом Фома встал и, без слов подняв ее с кресла, крепко взял наложницу за руку и повел прочь. Седовласый Сотир следовал за ними со скорбным видом – и видом исполненного долга… Перед кем?
На самом пороге высокий гость обернулся и положил руку старику на плечо.
- Спасибо тебе за твою верность госпоже, Сотир… Надеюсь, ты не скажешь и ей, что я приезжал?
Сотир улыбнулся с видом сожаления.
- Она поймет.
Патрикий кивнул.
- Метаксия слишком умна, - сказал он, - но это было бы еще полбеды, не будь она так же и самолюбива. Для женщины ее желания и домашние обиды куда легче могут затмить весь мир, чем для мужчины, в чем бы эти желания ни состояли!
Управитель кивнул.
Потом посмотрел на обоих господ и поклонился.
- Я провожу вас.
- Не стоит, - ответил Фома. – Ты исполнил свой долг.
Он медленно спустился по ступенькам, ведя за собой Феодору. Они в полном молчании прошли акациевую аллею, потом сели в повозку. Возница тронул лошадей без приказа.
Несколько минут Фома и Желань молчали – потом Желань решилась подать голос, поняв, что сам хозяин с ней не заговорит.
- Что случилось, Фома?
Он словно бы даже не обратил внимания, что его назвали по имени, - хотя это случалось нечасто и было знаком доверия. Феодора заметила, что это льстило ему больше, чем обращение, как к господину.
Нотарас протянул руку и привлек ее к себе.
- Метаксия действует без моего ведома и воли… Она уехала в Константинополь. Для нас это просто ужасно, Феодора.
Он неожиданно сжал свою подругу в объятиях и спрятал лицо у нее на плече, как у матери – или у Метаксии, когда та была рядом. Господин, до сих пор каменно спокойный, вдруг всхлипнул наложнице в шею. Феодора на несколько мгновений застыла от испуга, но потом обняла его и стала поглаживать по волосам.
Он тяжело дышал.
- Моя сестра решилась убить императора.
Желань давно думала об этом, таила в глубине сердца, потому что такое не говорилось вслух, особенно среди греков. Но потом она собралась с духом и обхватила светлую голову господина обеими руками, отстранив от себя. Она посмотрела ему в глаза – он плакал.
- Но разве… Разве вы не задумывали это с самого начала? – тихо спросила славянка. – Убийство императора? – прошептала она.
Патрикий покачал головой. Потом опять припал к ней на плечо.
- Это была самая крайняя мера, - прошептал Фома Нотарас. – Метаксия всегда стояла за убийство и подталкивала к этому меня, хотя я воспрещал ей… Она не понимала, сколько сил приложил император, а с ним и его советники, чтобы установить мир с католиками! Я люблю итальянцев не больше, чем она, – но смерть Иоанна Палеолога уничтожит последнюю гармонию в империи и надежду, что мы противостоим османам. Иоанн - миротворец, Феодора; быть может, именно потому, что стар… Но этим-то он и хорош для нас!
Феодоре стало очень страшно. Она ощутила, будто их маленький элисий вдруг превратился в болото, в котором они топили друг друга вместо того, чтобы вытягивать. Господин сжимал ей руки и задыхался, пытаясь совладать со своими чувствами.
- Но ведь Иоанну уже и так недолго осталось? – прошептала славянка. Фома засмеялся.
- Иоанну, пожалуй, осталось недолго… Но мы еще слишком молоды, чтобы умирать!
- Нас… Нас казнят за это, если раскроют заговор… да? – прошептала Феодора. – О чем же тогда думала Метаксия?
Фома пожал плечами с отвращением.
Он высвободился из объятий наложницы, но по-прежнему сжимал ее руки. Патрикий смотрел в сторону.
- У нее собственные счеты с католиками, - сказал он. – Это семейное дело.
Он улыбнулся.
- Итальянцы тоже мстят за весь род – и всему роду своих врагов… Но разве сейчас такое время?
Желань прижала руку к груди.
- А мне кажется, тут другое, - прошептала она. Кашлянула и закончила в полный голос:
- Мне кажется, Фома, что Метаксия хочет захватить власть в империи. Предупредить приход законного государя. Сейчас она еще может успеть… пока Константин ничего не знает, не правда ли?
Патрикий смотрел на нее онемев. Желань кивнула.
- Да, да… Уж я-то догадываюсь!
Re: Ставрос
Глава 13
Пока ехали до дому, они молчали – у обоих накопилось слишком много слов и мыслей; патрикий, морща белый лоб, выстраивал какие-то государственные соображения, которые наложница не смела нарушить слишком поздним вмешательством. Этот Новый Рим строился без участия - и без расчета на таких, как она.
Но когда они вернулись домой и остались одни в тишине своей спальни, Феодора насмелилась открыть рот.
- Фома, думаю, Сотир солгал нам.
Патрикий посмотрел на нее так, точно впервые увидел. Потом рассмеялся.
- Наивное дитя… Конечно, солгал!
Она покачала головой.
- Солгал в том, что Метаксия могла уехать куда раньше, - ответила славянка. – Он сказал, что не знает, куда она уехала, чтобы тебя отвлечь – чтобы ты не задумался, когда это было, а сразу поверил, что только четыре дня назад…
Ромей, глядя на нее, просветлел - и тут же помрачнел лицом.
- Ты права, - сказал он. – Конечно, именно так они с моей сестрой и сделали.
Потом взялся за лоб, и лицо его исказилось. Он стиснул зубы.
- Проклятье… Проклятье! Как теперь опередить ее!..
- Ты ничего еще не знаешь наверняка, - напомнила Феодора. – Ведь так?
Она помолчала, подбирая слова с величайшей осторожностью.
- Думаю, тебе конечно, следует уведомить Константина о том… что сочтешь нужным сказать, - продолжила славянка. – И ведь тебе нужна военная помощь.
Она даже похолодела, произнося такие слова. Патрикий смотрел на наложницу, точно не верил своим глазам.
Потом губы его искривились.
- Дитя, что ты понимаешь? – спросил ромей. – Ты думаешь, что сейчас можешь изменить судьбу империи… или потягаться со мной или моей сестрой в управлении государством? Разве я говорил тебе что-нибудь до сих пор?
- Я никогда и не притязала на власть, - возразила Феодора.
Она приблизилась к господину и притянула его к себе – так, как он обнимал ее в пути. Они опять обнялись.
- Ты не говорил мне ничего о том, что происходит, не потому, что думал, будто я глупа, - прошептала славянка. – Ты думал… что мне, рабыне, не может быть дела до судеб вашего Рима… и не верил мне.
Нотарас застыл в ее объятиях. Он и теперь ей не верил. Быть может, прежде он даже подозревал в ней убийцу, подосланную сестрой…
Несчастные владыки мира!
Желань обняла его крепче.
- Я, конечно, не знаю того, что известно тебе, - продолжала шептать она, - но знаю, что мятеж, затеянный Метаксией, добром кончиться не может, и не только потому, что такое воцарение противно закону и Богу… Твоя сестра хочет не продлить жизнь Византии – а потешить душу перед тем, как умереть вместе с последним Римом: как умер первый!
Нотарас вздрогнул и отстранился от наложницы.
- Что ты сказала?
Феодора улыбнулась с глубокой жалостью.
- Ты разве не видел, дорогой господин, сколько в твоей сестре отчаяния? У нее душа кричала, когда она смотрела на нас…
- Я не видел, - сказал патрикий. – Я был счастлив и слеп.
Он закрыл лицо руками.
- Господи!
Феодора взяла его за голову и поцеловала в лоб.
- Тебе нужно отдохнуть… поразмыслить. Но непременно отдохни. Если мы потеряли уже столько дней, несколько часов ничего не решат.
Феодора попросила домашнего врача приготовить для господина успокоительное питье. Она научилась делать его и сама, как и некоторые другие лекарства, но еще не решалась предлагать такую помощь хозяину.
Но сейчас врач неожиданно предоставил ей все сделать своими руками – как и отнести питье патрикию.
- Господина исцелит любое средство, полученное из твоих рук, госпожа, - сказал грек.
Феодора хотела напомнить, что она никакая не госпожа, а рабыня из тавроскифов, - но врач молча смотрел на нее своими добрыми проницательными глазами, и она поняла, что слова не нужны.
Она взяла поднос и отнесла в библиотеку – Нотарас расположился там, на мягком ложе, на котором нередко читал. Как будто не хотел отрываться от срочных дел даже на время отдыха.
Господин быстро сел при ее появлении. Он странно посмотрел на славянку.
- Ты приготовила питье сама?
- Да, - ответила она и улыбнулась. – Сама.
Он выпил.
А потом вдруг взял у нее поднос и поставил на столик; притянул ее к себе и уложил рядом, лицом к лицу.
Феодора удивилась, встрепенулась – но хозяин покачал головой.
- Нет… Просто полежи со мной.
Он прижал ее к себе и закрыл глаза. Они долго лежали так, чувствуя друг друга всем телом, ощущая, как сила одного перетекает в другого.
Потом ромей прошептал:
- Когда я был ребенком и моя семья гостила у Василия Калокира… когда я не мог заснуть… Метаксия приходила ко мне и лежала со мной, как ты сейчас. Она прогоняла прочь незнакомые тени.
"Он называет ее сестрой – хотя они не в таком близком родстве, - подумала Феодора. – Неужели его это совсем не смущает? Ведь он спал с ней, обладал ею, в самом деле?.."
- Она старше тебя? – спросила славянка.
- Да, - ответил Нотарас со вздохом.
Он не захотел больше говорить об этом. Через какое-то время Феодоре показалось, что хозяин заснул; но тут он вдруг шевельнулся и спросил:
- Ты хотела бы подарить мне ребенка?
Феодора встрепенулась и села, почти оттолкнув его. Она уставилась ему в глаза с таким выражением, что ромей только горько усмехнулся.
- Понимаю.
Он снова уложил ее с собой, и на несколько мгновений наложница испугалась. Но патрикий только гладил ее, ласкал, как будто запоминая. Пробрался рукой под тунику и нижнюю рубашку и отодвинул набедренную повязку.
Феодора затаила дыхание; но ее только ласкали и больше ничего – пока она не почувствовала, что теряет власть над собой, пока ее не затрясло от желания. Потом хозяин вдруг быстро встал.
- Нельзя терять времени. Я отдохнул, пора приниматься за дело.
Феодора села, обиженная, оставленная ни с чем. – А мне…
Хозяин обернулся через плечо.
- Ты уходи, - приказал он. – Ты мне сейчас помешаешь.
Феодора опустила глаза и, поднявшись, выскользнула из библиотеки. Слезы обиды жгли ей глаза. Конечно, патрикий был прав – ей не место в этом государстве: кроме как на таком положении, которого она не может признать.
Она медленно прошла по коридору, озаренному высокими светильниками-треножниками, и, придерживая дорогие вышитые юбки, спустилась по лестнице. Грудь у нее сжималась от горя и страха за всех – за себя и за всех врагов, которые вдруг стали ей так дороги и с которыми ей уже не разделить себя…
- Господи, помилуй грешную рабу твою Метаксию, - прошептала она. – Помилуй раба Фому. Помилуй…
Ей вдруг вспомнился несчастный мальчик, которого обманом взяли во дворец и оскопили.
- Помилуй Микитку и его страстотерпицу-мать, - прошептала московитка и перекрестилась. – И императора, - прибавила она и покачала головой.
За спиной раздались тихие шаги, и Феодора быстро обернулась.
- Ты молишься за императора?
Это был скульптор Олимп. Он печально улыбался, вокруг глаз собрались морщины.
- Олимп, пойдем, пожалуйста, поработаем, - попросила его славянка. – Это меня отвлечет! Если уж я не могу быть полезна!
Олимп не стал спорить. Ему и самому хотелось продолжить работу – Феодора вдруг позавидовала таким людям, художникам, которые могут блаженно забываться посреди самых великих тревог.
По пути в мастерскую она вдруг испугалась, что могла выдать себя Олимпу; но, конечно, она не сказала ничего лишнего. А озабоченность господина видели все в доме, и сколько может быть понятно, поймут…
Они вошли в мастерскую, и Феодора, как в первый раз, восхитилась своим глиняным подобием. Это была она – и уже не она, как будто сонм римских и греческих богов украсила еще одна покровительница Нового Рима.
Такая же бессильная теперь, как боги, низверженные Христом.
Но сколько силы было в Христе ромеев?
В глиняной Желани, одетой в струящееся греческое платье и покрывало, приоткрывавшее волосы и лоб, ощущалось что-то древнее, могущественное, как земля. Наложница провела пальцами по лицу статуи и улыбнулась.
- Ты нас чувствуешь, Олимп… Ты нас как будто знаешь.
- Я узнал тебя и понял твоих сородичей, - ответил скульптор. – Ваши женщины кроткие, но обладают большой стойкостью и достоинством – они очень надежны…
Феодора села на табурет и перестала улыбаться, обозрев статую целиком.
Наложница видела, сколько было сделано с тех пор, как дом посещала Метаксия: статуя родилась из глины почти вся. Осталось только охорошиться, отряхнуть прах с юбок – и русская женщина встанет во весь рост, во всю стать там, куда ее не приглашали и где ей были совсем не рады...
- Ведь третья неделя кончается, - прошептала славянка.
Олимп почувствовал, как ей тяжко, и сел рядом.
- Господин хотел выставить эту статую на форуме в Константинополе.
Феодора вздрогнула.
- Что ты сказал?..
Скульптор серьезно кивнул.
- Ведь он один из самых влиятельных людей империи, - сказал грек. – А это прекрасная работа.
Лицо его светилось восхищением – не столько перед собственным искусством, сколько перед божественным духом, который его вдохновлял.
- Кто ж ему позволит, - сказала Феодора.
Она вдруг отрезвела.
- Я хоть и рабыня, но совсем не глупа, Олимп. Я знаю, что на форумах у вас выставляют статуи самых важных людей – государевых мужей… Если уж дошло до меня, значит, дела вашей империи совсем плохи. Или господин просто хвастал.
Олимп едва заметно усмехнулся.
- Мы, греки, любим похвастать.
Феодора засмеялась – и вдруг почувствовала смысл, который скрывался за словами скульптора. Бахвальство перед судьбой древним героям помогало ее одолеть. Не знал ли Олимп все о планах своего господина?
Олимп отечески погладил ее по голове.
- Господину очень повезло, что он нашел тебя.
Феодора улыбнулась и зарделась. А Олимп мягко попросил ее встать и немного попозировать – осталось, как он сказал, довести до совершенства лицо и положение рук. Потом ее присутствие будет больше не нужно… Статуя оживет.
Феодора вдруг ощутила себя так, точно лукавые ромеи взяли у нее все, что хотели, и избавились. Но, конечно, эти добрые слуги были не таковы.
Когда Олимп порядочно увлекся, а она порядочно устала, неожиданно вбежала запыхавшаяся служанка и прервала работу словами, что Феодору зовет господин. Служанка трепетала и сжимала пальцы.
Феодора перекрестилась затекшей рукой и глубоко вздохнула.
- Зовет - значит, пойду.
Она простилась с Олимпом и направилась в гостиную. Фома Нотарас в одиночестве сидел за большим столом, за которым они, казалось, только вчера ужинали с Метаксией. Он жестом пригласил наложницу сесть рядом.
Обнял ее за плечи, когда она села.
- Я уезжаю, - сказал патрикий.
На лице его было трудно что-то прочесть. Но главное было и так понятно. Феодора тяжело задышала.
- Ты едешь…
Он кивнул и прижал ее к себе. Хозяин надолго замолчал.
А Феодора не знала, попроситься ли с ним – или промолчать; не знала, где сейчас страшнее, в доме заговорщика или в Константинополе; не знала, настолько ли любит этого грека, чтобы пойти с ним на погибельное дело, которое еще неизвестно, правое или нет!
Фома Нотарас разрешил ее сомнения.
- Ты останешься здесь, конечно.
Он поцеловал ее в лоб.
- Я не желаю рисковать тобой, - сказал он. – И вообще… так будет лучше, во всех отношениях.
Феодора вспомнила смех Метаксии, ее стремительную фигуру на колеснице – и поежилась. Кивнула.
- Хорошо.
Она хотела попросить, чтобы он писал ей, – но кто она такая, чтобы ради нее гонять посланцев по полным опасностей дорогам?
- Я прошу тебя…
Патрикий все понял и так.
- Если что-нибудь случится, я доберусь до дому никак не позже, чем любое послание.
"Или доберутся наши враги".
Господин распорядился, чтобы принесли поесть, - и они поужинали вдвоем. Было уже поздно. Потом он опять отослал Феодору: они спали вместе часто, но не слишком. Московитка знала, что благородные ромеи, как и русские бояре, мужья с женами, нередко спят отдельно – и находила, что это хорошо, когда каждому можно дать простор, чтобы не устать друг от друга... и не соблазнять друг друга чрезмерно.
И сейчас ее хозяину требовалось одиночество.
Он сказал, что тронется в путь завтра и позовет ее, чтобы проститься; на том они и разошлись. Феодора легла в холодную свежую постель и немного всплакнула. Ей вдруг представилось, что они все умрут; что она никогда больше не увидит этих людей, в которых теперь была вся ее жизнь.
Но нет: если погибнут они, ее заступники, она погибнет с ними непременно. Это ее горько утешило.
Наутро она поднялась рано, чтобы никак не пропустить отъезд хозяина, и сошла в гостиную. Многие дворовые собрались в зале – и все смотрели на господина с таким же выражением, как Феодора.
Она подошла к нему и, обхватив голову руками, поцеловала прилюдно.
- Возвращайся ко мне, - прошептала она.
Патрикий улыбнулся и вернул поцелуй. Славянка обняла его, точно отца.
- Пусть Бог охранит вас… всех, - прошептала она.
Плечи его дрогнули, точно от смеха, - всех? Но ромей ничего не сказал, а только молча перекрестил ее, а потом сделал знак выносить вещи. Он брал с собой немного. Потом хозяин направился к выходу, ни на кого больше не глядя, уже думая только о предстоящем деле.
Слуги последовали за ним, и в числе их был Олимп: он как-то слишком значительно всматривался в сборы господина. Феодора шла бок о бок со скульптором, к которому особенно привязалась за эти дни.
Хозяин сел в повозку, никого больше не удостоив словом или жестом, и уехал, вместе с небольшим конным отрядом.
Феодора схватила Олимпа за плечо. Вот так просто!
У нее из глаз покатились слезы. Кого она теперь дождется здесь, на этой дороге? Быть может, уже завтра на ней вместо Фомы Нотараса покажется отряд солдат, несущих смерть всему дому?..
- Идем в дом, госпожа, - тихо и сочувственно сказал скульптор.
Феодора повернулась к нему. Она отвела с глаз прядь темных волос, разбитых ветром, и спросила – голос ее звенел:
- Олимп, ведь мы поработаем с тобой сегодня?
Пока ехали до дому, они молчали – у обоих накопилось слишком много слов и мыслей; патрикий, морща белый лоб, выстраивал какие-то государственные соображения, которые наложница не смела нарушить слишком поздним вмешательством. Этот Новый Рим строился без участия - и без расчета на таких, как она.
Но когда они вернулись домой и остались одни в тишине своей спальни, Феодора насмелилась открыть рот.
- Фома, думаю, Сотир солгал нам.
Патрикий посмотрел на нее так, точно впервые увидел. Потом рассмеялся.
- Наивное дитя… Конечно, солгал!
Она покачала головой.
- Солгал в том, что Метаксия могла уехать куда раньше, - ответила славянка. – Он сказал, что не знает, куда она уехала, чтобы тебя отвлечь – чтобы ты не задумался, когда это было, а сразу поверил, что только четыре дня назад…
Ромей, глядя на нее, просветлел - и тут же помрачнел лицом.
- Ты права, - сказал он. – Конечно, именно так они с моей сестрой и сделали.
Потом взялся за лоб, и лицо его исказилось. Он стиснул зубы.
- Проклятье… Проклятье! Как теперь опередить ее!..
- Ты ничего еще не знаешь наверняка, - напомнила Феодора. – Ведь так?
Она помолчала, подбирая слова с величайшей осторожностью.
- Думаю, тебе конечно, следует уведомить Константина о том… что сочтешь нужным сказать, - продолжила славянка. – И ведь тебе нужна военная помощь.
Она даже похолодела, произнося такие слова. Патрикий смотрел на наложницу, точно не верил своим глазам.
Потом губы его искривились.
- Дитя, что ты понимаешь? – спросил ромей. – Ты думаешь, что сейчас можешь изменить судьбу империи… или потягаться со мной или моей сестрой в управлении государством? Разве я говорил тебе что-нибудь до сих пор?
- Я никогда и не притязала на власть, - возразила Феодора.
Она приблизилась к господину и притянула его к себе – так, как он обнимал ее в пути. Они опять обнялись.
- Ты не говорил мне ничего о том, что происходит, не потому, что думал, будто я глупа, - прошептала славянка. – Ты думал… что мне, рабыне, не может быть дела до судеб вашего Рима… и не верил мне.
Нотарас застыл в ее объятиях. Он и теперь ей не верил. Быть может, прежде он даже подозревал в ней убийцу, подосланную сестрой…
Несчастные владыки мира!
Желань обняла его крепче.
- Я, конечно, не знаю того, что известно тебе, - продолжала шептать она, - но знаю, что мятеж, затеянный Метаксией, добром кончиться не может, и не только потому, что такое воцарение противно закону и Богу… Твоя сестра хочет не продлить жизнь Византии – а потешить душу перед тем, как умереть вместе с последним Римом: как умер первый!
Нотарас вздрогнул и отстранился от наложницы.
- Что ты сказала?
Феодора улыбнулась с глубокой жалостью.
- Ты разве не видел, дорогой господин, сколько в твоей сестре отчаяния? У нее душа кричала, когда она смотрела на нас…
- Я не видел, - сказал патрикий. – Я был счастлив и слеп.
Он закрыл лицо руками.
- Господи!
Феодора взяла его за голову и поцеловала в лоб.
- Тебе нужно отдохнуть… поразмыслить. Но непременно отдохни. Если мы потеряли уже столько дней, несколько часов ничего не решат.
Феодора попросила домашнего врача приготовить для господина успокоительное питье. Она научилась делать его и сама, как и некоторые другие лекарства, но еще не решалась предлагать такую помощь хозяину.
Но сейчас врач неожиданно предоставил ей все сделать своими руками – как и отнести питье патрикию.
- Господина исцелит любое средство, полученное из твоих рук, госпожа, - сказал грек.
Феодора хотела напомнить, что она никакая не госпожа, а рабыня из тавроскифов, - но врач молча смотрел на нее своими добрыми проницательными глазами, и она поняла, что слова не нужны.
Она взяла поднос и отнесла в библиотеку – Нотарас расположился там, на мягком ложе, на котором нередко читал. Как будто не хотел отрываться от срочных дел даже на время отдыха.
Господин быстро сел при ее появлении. Он странно посмотрел на славянку.
- Ты приготовила питье сама?
- Да, - ответила она и улыбнулась. – Сама.
Он выпил.
А потом вдруг взял у нее поднос и поставил на столик; притянул ее к себе и уложил рядом, лицом к лицу.
Феодора удивилась, встрепенулась – но хозяин покачал головой.
- Нет… Просто полежи со мной.
Он прижал ее к себе и закрыл глаза. Они долго лежали так, чувствуя друг друга всем телом, ощущая, как сила одного перетекает в другого.
Потом ромей прошептал:
- Когда я был ребенком и моя семья гостила у Василия Калокира… когда я не мог заснуть… Метаксия приходила ко мне и лежала со мной, как ты сейчас. Она прогоняла прочь незнакомые тени.
"Он называет ее сестрой – хотя они не в таком близком родстве, - подумала Феодора. – Неужели его это совсем не смущает? Ведь он спал с ней, обладал ею, в самом деле?.."
- Она старше тебя? – спросила славянка.
- Да, - ответил Нотарас со вздохом.
Он не захотел больше говорить об этом. Через какое-то время Феодоре показалось, что хозяин заснул; но тут он вдруг шевельнулся и спросил:
- Ты хотела бы подарить мне ребенка?
Феодора встрепенулась и села, почти оттолкнув его. Она уставилась ему в глаза с таким выражением, что ромей только горько усмехнулся.
- Понимаю.
Он снова уложил ее с собой, и на несколько мгновений наложница испугалась. Но патрикий только гладил ее, ласкал, как будто запоминая. Пробрался рукой под тунику и нижнюю рубашку и отодвинул набедренную повязку.
Феодора затаила дыхание; но ее только ласкали и больше ничего – пока она не почувствовала, что теряет власть над собой, пока ее не затрясло от желания. Потом хозяин вдруг быстро встал.
- Нельзя терять времени. Я отдохнул, пора приниматься за дело.
Феодора села, обиженная, оставленная ни с чем. – А мне…
Хозяин обернулся через плечо.
- Ты уходи, - приказал он. – Ты мне сейчас помешаешь.
Феодора опустила глаза и, поднявшись, выскользнула из библиотеки. Слезы обиды жгли ей глаза. Конечно, патрикий был прав – ей не место в этом государстве: кроме как на таком положении, которого она не может признать.
Она медленно прошла по коридору, озаренному высокими светильниками-треножниками, и, придерживая дорогие вышитые юбки, спустилась по лестнице. Грудь у нее сжималась от горя и страха за всех – за себя и за всех врагов, которые вдруг стали ей так дороги и с которыми ей уже не разделить себя…
- Господи, помилуй грешную рабу твою Метаксию, - прошептала она. – Помилуй раба Фому. Помилуй…
Ей вдруг вспомнился несчастный мальчик, которого обманом взяли во дворец и оскопили.
- Помилуй Микитку и его страстотерпицу-мать, - прошептала московитка и перекрестилась. – И императора, - прибавила она и покачала головой.
За спиной раздались тихие шаги, и Феодора быстро обернулась.
- Ты молишься за императора?
Это был скульптор Олимп. Он печально улыбался, вокруг глаз собрались морщины.
- Олимп, пойдем, пожалуйста, поработаем, - попросила его славянка. – Это меня отвлечет! Если уж я не могу быть полезна!
Олимп не стал спорить. Ему и самому хотелось продолжить работу – Феодора вдруг позавидовала таким людям, художникам, которые могут блаженно забываться посреди самых великих тревог.
По пути в мастерскую она вдруг испугалась, что могла выдать себя Олимпу; но, конечно, она не сказала ничего лишнего. А озабоченность господина видели все в доме, и сколько может быть понятно, поймут…
Они вошли в мастерскую, и Феодора, как в первый раз, восхитилась своим глиняным подобием. Это была она – и уже не она, как будто сонм римских и греческих богов украсила еще одна покровительница Нового Рима.
Такая же бессильная теперь, как боги, низверженные Христом.
Но сколько силы было в Христе ромеев?
В глиняной Желани, одетой в струящееся греческое платье и покрывало, приоткрывавшее волосы и лоб, ощущалось что-то древнее, могущественное, как земля. Наложница провела пальцами по лицу статуи и улыбнулась.
- Ты нас чувствуешь, Олимп… Ты нас как будто знаешь.
- Я узнал тебя и понял твоих сородичей, - ответил скульптор. – Ваши женщины кроткие, но обладают большой стойкостью и достоинством – они очень надежны…
Феодора села на табурет и перестала улыбаться, обозрев статую целиком.
Наложница видела, сколько было сделано с тех пор, как дом посещала Метаксия: статуя родилась из глины почти вся. Осталось только охорошиться, отряхнуть прах с юбок – и русская женщина встанет во весь рост, во всю стать там, куда ее не приглашали и где ей были совсем не рады...
- Ведь третья неделя кончается, - прошептала славянка.
Олимп почувствовал, как ей тяжко, и сел рядом.
- Господин хотел выставить эту статую на форуме в Константинополе.
Феодора вздрогнула.
- Что ты сказал?..
Скульптор серьезно кивнул.
- Ведь он один из самых влиятельных людей империи, - сказал грек. – А это прекрасная работа.
Лицо его светилось восхищением – не столько перед собственным искусством, сколько перед божественным духом, который его вдохновлял.
- Кто ж ему позволит, - сказала Феодора.
Она вдруг отрезвела.
- Я хоть и рабыня, но совсем не глупа, Олимп. Я знаю, что на форумах у вас выставляют статуи самых важных людей – государевых мужей… Если уж дошло до меня, значит, дела вашей империи совсем плохи. Или господин просто хвастал.
Олимп едва заметно усмехнулся.
- Мы, греки, любим похвастать.
Феодора засмеялась – и вдруг почувствовала смысл, который скрывался за словами скульптора. Бахвальство перед судьбой древним героям помогало ее одолеть. Не знал ли Олимп все о планах своего господина?
Олимп отечески погладил ее по голове.
- Господину очень повезло, что он нашел тебя.
Феодора улыбнулась и зарделась. А Олимп мягко попросил ее встать и немного попозировать – осталось, как он сказал, довести до совершенства лицо и положение рук. Потом ее присутствие будет больше не нужно… Статуя оживет.
Феодора вдруг ощутила себя так, точно лукавые ромеи взяли у нее все, что хотели, и избавились. Но, конечно, эти добрые слуги были не таковы.
Когда Олимп порядочно увлекся, а она порядочно устала, неожиданно вбежала запыхавшаяся служанка и прервала работу словами, что Феодору зовет господин. Служанка трепетала и сжимала пальцы.
Феодора перекрестилась затекшей рукой и глубоко вздохнула.
- Зовет - значит, пойду.
Она простилась с Олимпом и направилась в гостиную. Фома Нотарас в одиночестве сидел за большим столом, за которым они, казалось, только вчера ужинали с Метаксией. Он жестом пригласил наложницу сесть рядом.
Обнял ее за плечи, когда она села.
- Я уезжаю, - сказал патрикий.
На лице его было трудно что-то прочесть. Но главное было и так понятно. Феодора тяжело задышала.
- Ты едешь…
Он кивнул и прижал ее к себе. Хозяин надолго замолчал.
А Феодора не знала, попроситься ли с ним – или промолчать; не знала, где сейчас страшнее, в доме заговорщика или в Константинополе; не знала, настолько ли любит этого грека, чтобы пойти с ним на погибельное дело, которое еще неизвестно, правое или нет!
Фома Нотарас разрешил ее сомнения.
- Ты останешься здесь, конечно.
Он поцеловал ее в лоб.
- Я не желаю рисковать тобой, - сказал он. – И вообще… так будет лучше, во всех отношениях.
Феодора вспомнила смех Метаксии, ее стремительную фигуру на колеснице – и поежилась. Кивнула.
- Хорошо.
Она хотела попросить, чтобы он писал ей, – но кто она такая, чтобы ради нее гонять посланцев по полным опасностей дорогам?
- Я прошу тебя…
Патрикий все понял и так.
- Если что-нибудь случится, я доберусь до дому никак не позже, чем любое послание.
"Или доберутся наши враги".
Господин распорядился, чтобы принесли поесть, - и они поужинали вдвоем. Было уже поздно. Потом он опять отослал Феодору: они спали вместе часто, но не слишком. Московитка знала, что благородные ромеи, как и русские бояре, мужья с женами, нередко спят отдельно – и находила, что это хорошо, когда каждому можно дать простор, чтобы не устать друг от друга... и не соблазнять друг друга чрезмерно.
И сейчас ее хозяину требовалось одиночество.
Он сказал, что тронется в путь завтра и позовет ее, чтобы проститься; на том они и разошлись. Феодора легла в холодную свежую постель и немного всплакнула. Ей вдруг представилось, что они все умрут; что она никогда больше не увидит этих людей, в которых теперь была вся ее жизнь.
Но нет: если погибнут они, ее заступники, она погибнет с ними непременно. Это ее горько утешило.
Наутро она поднялась рано, чтобы никак не пропустить отъезд хозяина, и сошла в гостиную. Многие дворовые собрались в зале – и все смотрели на господина с таким же выражением, как Феодора.
Она подошла к нему и, обхватив голову руками, поцеловала прилюдно.
- Возвращайся ко мне, - прошептала она.
Патрикий улыбнулся и вернул поцелуй. Славянка обняла его, точно отца.
- Пусть Бог охранит вас… всех, - прошептала она.
Плечи его дрогнули, точно от смеха, - всех? Но ромей ничего не сказал, а только молча перекрестил ее, а потом сделал знак выносить вещи. Он брал с собой немного. Потом хозяин направился к выходу, ни на кого больше не глядя, уже думая только о предстоящем деле.
Слуги последовали за ним, и в числе их был Олимп: он как-то слишком значительно всматривался в сборы господина. Феодора шла бок о бок со скульптором, к которому особенно привязалась за эти дни.
Хозяин сел в повозку, никого больше не удостоив словом или жестом, и уехал, вместе с небольшим конным отрядом.
Феодора схватила Олимпа за плечо. Вот так просто!
У нее из глаз покатились слезы. Кого она теперь дождется здесь, на этой дороге? Быть может, уже завтра на ней вместо Фомы Нотараса покажется отряд солдат, несущих смерть всему дому?..
- Идем в дом, госпожа, - тихо и сочувственно сказал скульптор.
Феодора повернулась к нему. Она отвела с глаз прядь темных волос, разбитых ветром, и спросила – голос ее звенел:
- Олимп, ведь мы поработаем с тобой сегодня?