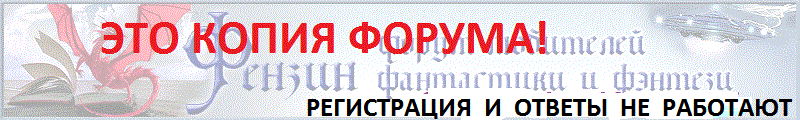Ставрос
Модератор: K.H.Hynta
Re: Ставрос
Глава 84
Феофано оправилась к середине весны – но до прежней формы ей было далеко: хотя она не жалела себя и упражняла руки, натягивая лук, меча копье и рубя деревянных болванов мечом, еще до того, как ребра и нога полностью срослись; начала садиться на лошадь еще до того, как смогла отбросить палку.
- Побереги себя, - увещевал ее Марк.
Феофано усмехалась в ответ.
- Ты думаешь, я готовлю себя к еще одной такой же битве? Нет, спартанец, прошли те времена! Я упражняюсь затем, чтобы помнить… мы еще что-то значим в глазах Бога! Титаны жили на земле когда-то, но это не мы, мой дорогой.
Марк обнимал ее, понимая, что слова не нужны, что он не найдет нужных слов, - и Феофано прижималась к нему, как к мужу. Иногда плакала в его объятиях от боли, телесной и душевной.
Никакой турецкой угрозы пока не брезжило – и дела войску не находилось: немало людей оставили лагерь, уехав к своим семьям. Многие византийские воины, даже те, кто служил в армии постоянно, перебивались мелкими работами, которыми раньше – и теперь – занимались чужеземные пленники и рабы; и нередко жили хуже рабов. Те воины, кого Феофано набрала в армию из мирных греков, тоже оставили ее ради жен и детей, и Феофано их не удерживала. Царица знала, что даже Константинополь не может выставлять сейчас против врага достаточно обученных солдат: когда придет час, на стены выйдут все, кто способен держать оружие.
И Феофано знала, что сделала для греков главное – разбудила в них гордость, может быть, давно угасшую; послужила им образцом красоты и доблести, который, может быть, воссияет перед их глазами в смертный час!
Она вернулась в дом Льва Аммония, где пока было безопасно находиться, вместе с отрядом солдат, который еще могла прокормить на своей земле, с овдовевшим братом и, конечно, Марком – этот верный воин, друг и бывший возлюбленный стал ей нужен как воздух: не всякий муж так нужен жене.
Может быть, они так любили друг друга и нуждались один в другом именно потому, что не могли соединиться? Как часто любовь поддерживают надежды и мечты, а брак рушит ее! Как часто мужчина может восхищаться женщиной и склонять перед нею голову, лишь пока не обретет над нею власть мужа, - вот почему столько правительниц, прославившихся в истории, не имели мужей или лишились их…
И они оба понимали это теперь.
Несколько раз Феофано даже удерживала Марка у себя на ночь: сейчас, когда ее некому было утешать в постели. Но это случалось лишь потому, что она могла приказывать ему, а не он ей. Императрица засыпала в крепких мужских объятиях, а ее временный обладатель подолгу не мог уснуть – и спрашивал себя: не мог ли на его месте, волею случая, оказаться кто-нибудь другой?
И отвечал сам себе: мог бы. Царицы забывают преданных воинов так же, как мужья пренебрегают преданными женами… Но таких цариц, как Феофано, куда меньше, чем себялюбивых мужей: и пусть даже он заменим, Феофано ему не заменит никакая другая женщина.
- А ты не боишься, что будет ребенок? – спросил он ее в первую ночь – как когда-то в Константинополе.
- Ничего не будет, - ответила Феофано. – У меня по-прежнему нет кровей, тебе ли этого не знать!
Марк это знал, проведя у ее ложа столько дней и ночей, – сделавшись царицей, Феофано перестала быть обыкновенной женщиной.
Она продолжала поиски своей филэ, тоска ее и страх за подругу не утихали, и не могли бы утихнуть. Но она искала Феодору больше для себя, чем для Феодоры, - чтобы помнить, что Метаксия Калокир еще что-то значит в глазах Бога. Про себя Марк думал, что едва ли эти две женщины еще смогут соединиться при жизни: брачные цепи никогда уже не свяжут одну из них, но вторую едва ли отпустят.
И он наслаждался тем счастьем, какое еще мог иметь, - лишь истинно зрелые люди, на самом деле, могут быть счастливы настоящей минутой, а не надеждами. Греки созрели душой намного раньше османов – и, как взрослые, уступят место нетерпеливым и жадным детям.
Феодора долго дожидалась своего хозяина – ей некогда было скучать, потому что работа для рук никогда не переводилась; но в душе словно зазияла дыра… такая пустота, которую может оставить лишь мужчина, ворвавшийся в женскую жизнь, овладевший женщиной и так же стремительно покинувший ее. Почему-то она не боялась голодной смерти, даже если бы Валент погиб: ее воины наловчились охотиться так же, как он, и могли бы, приди такая нужда, долго держаться вместе с хозяйкой в этом прибежище. Но она не смогла бы тут – зачахла бы: изведав большой мир, узнав Фому, Феофано, Константинополь, московитка не выдержала бы дикой жизни и не смогла бы приучать к ней своих детей.
Она жаждала любви, познания, творения, свободы – всего того, что в изобилии предлагается мужчинам и что получают лишь немногие женщины, как дорогой подарок судьбы! Немногим женщинам позволяется желать; им позволяется лишь быть желанными.
Иногда Феодоре даже хотелось, чтобы пришли турки и покончили с этой неизвестностью. Нет, она не боялась за детей – она приказала бы своим воинам убить их, а потом и себя: как поступали уже многие женщины, окруженные врагами. Но потом Феодора понимала, что это мысли, порожденные отчаянием и страхом… страхом, в котором жили все греки в черные годы: стоило задуматься о смерти, как она сознавала, насколько хочет жить – и чтобы ее дети жили!
Когда пошла третья неделя со дня отъезда Валента, Феодора приказала Леониду и Теоклу, самым верным людям, все желание и счастье которых заключалось друг в друге, разведать – нет ли пути отсюда. Попытаться договориться с разноязыкими азиатами, приносившими им лепешки, свежий сыр и молоко из селений внизу, представлялось бесполезным: без Валента пленнице было очень трудно определить, кто из азиатов понимает по-гречески, и эти стрелки и скалолазы как будто теряли способность к человеческой речи, когда видели женщину своего господина. Это была не столько преданность – сколько враждебность и объединение против женщины, свойственные диким людям.
Они, пожалуй, сами убили бы ее и ее детей еще до прихода врагов – не потому, что ненавидели, и не потому, что хотели для себя; а только потому, что не пожелали бы отдать или отпустить!
Но ее греки, драгоценные товарищи и помощники, всегда готовы были рискнуть жизнью ради свободы, своей и своей госпожи. И когда она почувствовала в себе такую готовность, Леонид и Теокл согласились без колебаний.
- Только не следует идти нам вдвоем – могут что-нибудь заподозрить, - предупредил Леонид.
Феодора улыбнулась. Теперь, когда терять осталось так мало, и страх почти прошел.
- Почему не следует? Всегда можно сказать, что вы ходили охотиться. Заподозрят, если уйдет кто-нибудь один, ведь вы никогда не разлучаетесь!
Она позавидовала в эту минуту воинам, стоявшим перед ней в обнимку, - точно какой-нибудь олимпиец со своим земным избранником; или два бога-олимпийца. Темноволосый Леонид промолчал в ответ на ее слова; зато светлокудрый Теокл притянул друга ближе и просиял улыбкой:
- Мы спустимся в деревню, госпожа, и попытаемся расспросить местных!
- Едва ли они знают много, - возразила Феодора, - они, наверное, никогда не покидают своих гор, ведь здесь есть все, что нужно для жизни!
У нее даже озноб пробежал по спине от этой мысли. И Валент тоже понимает, что здесь есть все, нужное для жизни. Какое будущее готовит он ей и своему ребенку – и позволит ли им еще раз увидеть Константинополь, даже подвластный туркам?
- И вы можете возбудить подозрения, - заключила хозяйка. – Ведь азиаты наблюдают отовсюду, пусть вы их и не видите! Слава богу, что хотя бы нашу речь понимают с трудом! Постарайтесь просто отойти от дома подальше – как будто преследуете козу…
Она запнулась, до сих пор с трудом представляя себе, как загоняют зверя, хотя столько раз жарила и подавала своему хозяину козье мясо и оленину.
- Мы найдемся, - выручил ее Теокл, дружески похлопав госпожу по плечу.
И два храбреца, не откладывая дела, ушли.
Феодора дожидалась их день и другой – а на третий Леонид явился один: он явился бегом, весь в грязи, в порванной и окровавленной одежде, едва живой от усталости. Едва остановившись при виде хозяйки, воин присел, задыхаясь.
Феодора бросилась к нему.
- Леонид!.. Что ты делаешь – нельзя так сразу останавливаться после бега, ты умрешь!
Она почти силой подняла его на ноги и заставила пройтись; воин так навалился на нее, что чуть не уронил.
Потом оттолкнул госпожу и стал прохаживаться один, тяжело дыша, с серым лицом. Он силился что-то сказать. И наконец произнес:
- Теокл… Он ранен, я пришел сказать! Я перевязал его и нес сколько мог на спине, но дальше обессилел! Нужно забрать его, госпожа!
Феодора села на каменистую землю, вырывая редкие пучки травы.
- Ранен? Кто ранил его?..
- Не знаю! Случайная стрела, попала ему в бок! – ответил Леонид.
Он посмотрел в лицо госпожи с таким видом, что никаких слов больше не потребовалось. Феодора схватилась за голову.
- Они не дадут нам уйти…
Леонид молча покачал головой.
Потом умоляюще прибавил:
- Нужно забрать его как можно скорее… Пожалуйста, госпожа, поскорее!
Феодора немного овладела собой.
- Пойду позову на помощь Валентовых воинов, уж они-то наверняка тут все горы носом перерыли!
Она побежала к дому, и разыскала у полуразрушенной стены, среди цветущего вереска, троих черных раскосых людей, которые сидели на корточках и о чем-то разговаривали на своем непонятном и невнятном языке. За спинами у них были наборные турецкие луки и колчаны со стрелами. Когда пленница подошла, разговор замолк, и азиаты обернулись.
Феодора испугалась, увидев их пустые глаза. С таким же выражением, с каким смотрели на чужую женщину, они могли бы изрешетить ее стрелами – и ничего при этом не почувствовать!
- Помогите мне… Прошу вас, - сказала она, почти умоляя. – Один из моих воинов ранен, нужно принести его сюда!
Несколько мгновений воины Валента не двигались и не отвечали – Феодора уже испугалась, что ее не поняли. Потом один из них кивнул и встал; остальные – следом.
Феодора повернулась и пошла вперед, показывая дорогу. Сердце ее бешено колотилось.
Она подвела азиатов к Леониду, и они ушли все вместе. Ей подумалось, что Леонид может тоже не вернуться – и с кого она тогда спросит?..
Но Леонид вернулся; и с ним, уложив на носилки, сооруженные из плащей, принесли бледного окровавленного Теокла. Тот был в сознании и даже пытался улыбаться.
Феодора бросилась к раненому со слезами; она клялась себе, что никогда больше не отпустит своих людей от себя, тем более - на такое рискованное дело!
Конечно, она нарушит эту клятву, и ее люди тоже не согласятся. Если им дадут время…
Феодора сама выхаживала Теокла, вместе с Леонидом, - и оба были очень благодарны ей. Феодора недоумевала – почему дочери Валента не пытаются бунтовать, как она? Но поразмыслив, перестала удивляться. Прежде всего, потому, что они – женщины, а Валент им отец; и у них нет в подчинении никаких людей, хотя они и гораздо знатнее ее, боярской холопки. Но девицы – всегда заложницы в отцовском доме, что здесь, что на Руси…
И они, конечно, надеются, что отец устроит их судьбу. Согласятся и на турок – что еще им остается?
Теокл поправился быстро: рана у него была глубокая, но неопасная. Когда он стал выходить из дому и снова взял в руки оружие, вернулся хозяин.
Валент Аммоний, подъезжающий к дому, показался Феодоре чужим и мрачным… в первые мгновения, когда московитка узнала его, он испугал ее так, точно она опять увидела его во главе тысячи азиатов, грозивших ей и ее детям смертью. Но когда она подбежала ближе, вместе с Мардонием, Валент посмотрел на них и широко улыбнулся.
Улыбка совершенно преобразила его лицо.
Он махнул рукой сыну, и мальчик радостно подбежал: отец подхватил его в седло и расцеловал. Потом уже, спустив на землю сына, позвал русскую жену.
Феодора ответила на крепкое объятие и поцелуй - но так, что Валент отстранил ее от себя и впился в нее взглядом:
- Какая холодная встреча! Ты мне не рада?
- Тебя так долго не было, что я отвыкла, - сказала Феодора, прижимаясь к нему.
Валент нахмурил четкие черные брови.
- Едем домой – приготовишь мне поесть с дороги и ванну! Успеешь привыкнуть!
Феодора кивнула; ее царапнула обида и страх. Валент не вспомнил о том, что обещал ей привезти; ничего не сказал о том, чем занимался, с кем виделся! Но, может быть, расскажет позже.
Валент и в самом деле оттаял после сытной еды и купания – он просто очень устал, и не желал разговаривать, как всякий усталый мужчина; но когда он отдохнул и повеселел, сразу же приказал Феодоре принести свою седельную сумку, из которой вытряхнул прямо на вытертый ковер груду свитков.
- Это тебе! Развлекайся – надолго хватит!
Феодора засмеялась, всплеснув руками.
- Ты что, ограбил кого-нибудь? Так много!
Новый муж смеялся в ответ, ничуть не оскорбившись таким предположением. Подмигнул ей.
- Ограбил кого следует, женушка!
Феодора перестала улыбаться и молча собрала свитки, перевязав их бечевкой: ей пришлось сделать это несколько раз, связывая книги по десять штук. Теперь она не сомневалась, что Валент ради нее пошел на крупную кражу. Хотя – так ли это важно? Может, и лучше, что книги будут сохраняться у нее, а не достанутся ученому турку – для бахвальства или неученому – в костер!
Главное, чтобы Валент никого не убил…
Когда она закончила с книгами, муж вдруг позвал ее из дома.
- Поедем прогуляемся!
Феодора не решилась перечить, хотя было уже поздно; наверное, у Валента нашлась какая-то причина этого потребовать. Она приказала оседлать Тессу и свежую лошадь для мужа.
Они поскакали по тропке, по которой уже не раз прогуливались верхом при свете дня; сейчас Феодоре было боязно, но и восхитительно… наедине с этим ужасным и восхитительным человеком, которому могло взбрести в голову что угодно!
Они остановились, когда дом скрылся позади, на лужайке, стиснутой между двумя склонами. Здесь, кажется, даже не выпасали коз – травяное ложе было слишком мало, а пробираться к нему было неудобно…
Они спешились, стреножили лошадей, а потом Валент сразу же увлек жену на траву. Она опрокинулась на спину, увидев над головой звезды – близкие, огромные. И больше ничего не успела увидеть.
Валент любил ее молча, долго, с такою же жадностью и наслаждением, с каким насыщался после долгой дороги. И ей не нужно было ничего говорить, и не нужно сдерживать себя: они сливались точно Адам и Ева в раю, первые на свете и безгрешные люди! Нет, не люди: счастливые бессмертные – в них сейчас не осталось ничего христианского, и вокруг них тоже: только дикая жизнь, которая в конце концов торжествовала над всеми людьми и их измышлениями, все человеческие грешки зарастали травой.
Потом они долго лежали рядом на расстеленных плащах, глядя в небо. Валент улыбался – он был совершенно счастлив. Можно ли было сомневаться, что жена принадлежит ему всецело, – услышав ее крики, увидев содрогания! Когда она начнет притворяться, он сразу поймет…
С первой женой он понял быстро, хотя был и куда моложе. Но первую он не любил – и понял, что значит любовь, только теперь!
И, конечно, не может быть и речи о том, чтобы отпустить эту женщину, даже если она охладеет к нему. Женщины остывают быстро, это верно: но чтобы он утратил пыл, нужно очень постараться. И она - мать его ребенка, его собственность, выкуп за кровь брата… нет, он скорее убьет ее, чем позволит сбежать!
Валент ощущал эту спокойную уверенность, когда тронул жену за подбородок, заставив повернуть голову. Она улыбалась ему умиротворенной улыбкой; и была, несомненно, так же счастлива.
Но под этим счастьем бродили мысли, точно отбившиеся от стада козы, – когда азиаты доложат хозяину о ее попытке к бегству; и что будет, когда это произойдет. А, да что бы ни было!
Феодора рассмеялась и поцеловала его.
- Тебе хорошо? – спросил Валент.
- Очень хорошо, - искренне ответила пленница.
Феофано оправилась к середине весны – но до прежней формы ей было далеко: хотя она не жалела себя и упражняла руки, натягивая лук, меча копье и рубя деревянных болванов мечом, еще до того, как ребра и нога полностью срослись; начала садиться на лошадь еще до того, как смогла отбросить палку.
- Побереги себя, - увещевал ее Марк.
Феофано усмехалась в ответ.
- Ты думаешь, я готовлю себя к еще одной такой же битве? Нет, спартанец, прошли те времена! Я упражняюсь затем, чтобы помнить… мы еще что-то значим в глазах Бога! Титаны жили на земле когда-то, но это не мы, мой дорогой.
Марк обнимал ее, понимая, что слова не нужны, что он не найдет нужных слов, - и Феофано прижималась к нему, как к мужу. Иногда плакала в его объятиях от боли, телесной и душевной.
Никакой турецкой угрозы пока не брезжило – и дела войску не находилось: немало людей оставили лагерь, уехав к своим семьям. Многие византийские воины, даже те, кто служил в армии постоянно, перебивались мелкими работами, которыми раньше – и теперь – занимались чужеземные пленники и рабы; и нередко жили хуже рабов. Те воины, кого Феофано набрала в армию из мирных греков, тоже оставили ее ради жен и детей, и Феофано их не удерживала. Царица знала, что даже Константинополь не может выставлять сейчас против врага достаточно обученных солдат: когда придет час, на стены выйдут все, кто способен держать оружие.
И Феофано знала, что сделала для греков главное – разбудила в них гордость, может быть, давно угасшую; послужила им образцом красоты и доблести, который, может быть, воссияет перед их глазами в смертный час!
Она вернулась в дом Льва Аммония, где пока было безопасно находиться, вместе с отрядом солдат, который еще могла прокормить на своей земле, с овдовевшим братом и, конечно, Марком – этот верный воин, друг и бывший возлюбленный стал ей нужен как воздух: не всякий муж так нужен жене.
Может быть, они так любили друг друга и нуждались один в другом именно потому, что не могли соединиться? Как часто любовь поддерживают надежды и мечты, а брак рушит ее! Как часто мужчина может восхищаться женщиной и склонять перед нею голову, лишь пока не обретет над нею власть мужа, - вот почему столько правительниц, прославившихся в истории, не имели мужей или лишились их…
И они оба понимали это теперь.
Несколько раз Феофано даже удерживала Марка у себя на ночь: сейчас, когда ее некому было утешать в постели. Но это случалось лишь потому, что она могла приказывать ему, а не он ей. Императрица засыпала в крепких мужских объятиях, а ее временный обладатель подолгу не мог уснуть – и спрашивал себя: не мог ли на его месте, волею случая, оказаться кто-нибудь другой?
И отвечал сам себе: мог бы. Царицы забывают преданных воинов так же, как мужья пренебрегают преданными женами… Но таких цариц, как Феофано, куда меньше, чем себялюбивых мужей: и пусть даже он заменим, Феофано ему не заменит никакая другая женщина.
- А ты не боишься, что будет ребенок? – спросил он ее в первую ночь – как когда-то в Константинополе.
- Ничего не будет, - ответила Феофано. – У меня по-прежнему нет кровей, тебе ли этого не знать!
Марк это знал, проведя у ее ложа столько дней и ночей, – сделавшись царицей, Феофано перестала быть обыкновенной женщиной.
Она продолжала поиски своей филэ, тоска ее и страх за подругу не утихали, и не могли бы утихнуть. Но она искала Феодору больше для себя, чем для Феодоры, - чтобы помнить, что Метаксия Калокир еще что-то значит в глазах Бога. Про себя Марк думал, что едва ли эти две женщины еще смогут соединиться при жизни: брачные цепи никогда уже не свяжут одну из них, но вторую едва ли отпустят.
И он наслаждался тем счастьем, какое еще мог иметь, - лишь истинно зрелые люди, на самом деле, могут быть счастливы настоящей минутой, а не надеждами. Греки созрели душой намного раньше османов – и, как взрослые, уступят место нетерпеливым и жадным детям.
Феодора долго дожидалась своего хозяина – ей некогда было скучать, потому что работа для рук никогда не переводилась; но в душе словно зазияла дыра… такая пустота, которую может оставить лишь мужчина, ворвавшийся в женскую жизнь, овладевший женщиной и так же стремительно покинувший ее. Почему-то она не боялась голодной смерти, даже если бы Валент погиб: ее воины наловчились охотиться так же, как он, и могли бы, приди такая нужда, долго держаться вместе с хозяйкой в этом прибежище. Но она не смогла бы тут – зачахла бы: изведав большой мир, узнав Фому, Феофано, Константинополь, московитка не выдержала бы дикой жизни и не смогла бы приучать к ней своих детей.
Она жаждала любви, познания, творения, свободы – всего того, что в изобилии предлагается мужчинам и что получают лишь немногие женщины, как дорогой подарок судьбы! Немногим женщинам позволяется желать; им позволяется лишь быть желанными.
Иногда Феодоре даже хотелось, чтобы пришли турки и покончили с этой неизвестностью. Нет, она не боялась за детей – она приказала бы своим воинам убить их, а потом и себя: как поступали уже многие женщины, окруженные врагами. Но потом Феодора понимала, что это мысли, порожденные отчаянием и страхом… страхом, в котором жили все греки в черные годы: стоило задуматься о смерти, как она сознавала, насколько хочет жить – и чтобы ее дети жили!
Когда пошла третья неделя со дня отъезда Валента, Феодора приказала Леониду и Теоклу, самым верным людям, все желание и счастье которых заключалось друг в друге, разведать – нет ли пути отсюда. Попытаться договориться с разноязыкими азиатами, приносившими им лепешки, свежий сыр и молоко из селений внизу, представлялось бесполезным: без Валента пленнице было очень трудно определить, кто из азиатов понимает по-гречески, и эти стрелки и скалолазы как будто теряли способность к человеческой речи, когда видели женщину своего господина. Это была не столько преданность – сколько враждебность и объединение против женщины, свойственные диким людям.
Они, пожалуй, сами убили бы ее и ее детей еще до прихода врагов – не потому, что ненавидели, и не потому, что хотели для себя; а только потому, что не пожелали бы отдать или отпустить!
Но ее греки, драгоценные товарищи и помощники, всегда готовы были рискнуть жизнью ради свободы, своей и своей госпожи. И когда она почувствовала в себе такую готовность, Леонид и Теокл согласились без колебаний.
- Только не следует идти нам вдвоем – могут что-нибудь заподозрить, - предупредил Леонид.
Феодора улыбнулась. Теперь, когда терять осталось так мало, и страх почти прошел.
- Почему не следует? Всегда можно сказать, что вы ходили охотиться. Заподозрят, если уйдет кто-нибудь один, ведь вы никогда не разлучаетесь!
Она позавидовала в эту минуту воинам, стоявшим перед ней в обнимку, - точно какой-нибудь олимпиец со своим земным избранником; или два бога-олимпийца. Темноволосый Леонид промолчал в ответ на ее слова; зато светлокудрый Теокл притянул друга ближе и просиял улыбкой:
- Мы спустимся в деревню, госпожа, и попытаемся расспросить местных!
- Едва ли они знают много, - возразила Феодора, - они, наверное, никогда не покидают своих гор, ведь здесь есть все, что нужно для жизни!
У нее даже озноб пробежал по спине от этой мысли. И Валент тоже понимает, что здесь есть все, нужное для жизни. Какое будущее готовит он ей и своему ребенку – и позволит ли им еще раз увидеть Константинополь, даже подвластный туркам?
- И вы можете возбудить подозрения, - заключила хозяйка. – Ведь азиаты наблюдают отовсюду, пусть вы их и не видите! Слава богу, что хотя бы нашу речь понимают с трудом! Постарайтесь просто отойти от дома подальше – как будто преследуете козу…
Она запнулась, до сих пор с трудом представляя себе, как загоняют зверя, хотя столько раз жарила и подавала своему хозяину козье мясо и оленину.
- Мы найдемся, - выручил ее Теокл, дружески похлопав госпожу по плечу.
И два храбреца, не откладывая дела, ушли.
Феодора дожидалась их день и другой – а на третий Леонид явился один: он явился бегом, весь в грязи, в порванной и окровавленной одежде, едва живой от усталости. Едва остановившись при виде хозяйки, воин присел, задыхаясь.
Феодора бросилась к нему.
- Леонид!.. Что ты делаешь – нельзя так сразу останавливаться после бега, ты умрешь!
Она почти силой подняла его на ноги и заставила пройтись; воин так навалился на нее, что чуть не уронил.
Потом оттолкнул госпожу и стал прохаживаться один, тяжело дыша, с серым лицом. Он силился что-то сказать. И наконец произнес:
- Теокл… Он ранен, я пришел сказать! Я перевязал его и нес сколько мог на спине, но дальше обессилел! Нужно забрать его, госпожа!
Феодора села на каменистую землю, вырывая редкие пучки травы.
- Ранен? Кто ранил его?..
- Не знаю! Случайная стрела, попала ему в бок! – ответил Леонид.
Он посмотрел в лицо госпожи с таким видом, что никаких слов больше не потребовалось. Феодора схватилась за голову.
- Они не дадут нам уйти…
Леонид молча покачал головой.
Потом умоляюще прибавил:
- Нужно забрать его как можно скорее… Пожалуйста, госпожа, поскорее!
Феодора немного овладела собой.
- Пойду позову на помощь Валентовых воинов, уж они-то наверняка тут все горы носом перерыли!
Она побежала к дому, и разыскала у полуразрушенной стены, среди цветущего вереска, троих черных раскосых людей, которые сидели на корточках и о чем-то разговаривали на своем непонятном и невнятном языке. За спинами у них были наборные турецкие луки и колчаны со стрелами. Когда пленница подошла, разговор замолк, и азиаты обернулись.
Феодора испугалась, увидев их пустые глаза. С таким же выражением, с каким смотрели на чужую женщину, они могли бы изрешетить ее стрелами – и ничего при этом не почувствовать!
- Помогите мне… Прошу вас, - сказала она, почти умоляя. – Один из моих воинов ранен, нужно принести его сюда!
Несколько мгновений воины Валента не двигались и не отвечали – Феодора уже испугалась, что ее не поняли. Потом один из них кивнул и встал; остальные – следом.
Феодора повернулась и пошла вперед, показывая дорогу. Сердце ее бешено колотилось.
Она подвела азиатов к Леониду, и они ушли все вместе. Ей подумалось, что Леонид может тоже не вернуться – и с кого она тогда спросит?..
Но Леонид вернулся; и с ним, уложив на носилки, сооруженные из плащей, принесли бледного окровавленного Теокла. Тот был в сознании и даже пытался улыбаться.
Феодора бросилась к раненому со слезами; она клялась себе, что никогда больше не отпустит своих людей от себя, тем более - на такое рискованное дело!
Конечно, она нарушит эту клятву, и ее люди тоже не согласятся. Если им дадут время…
Феодора сама выхаживала Теокла, вместе с Леонидом, - и оба были очень благодарны ей. Феодора недоумевала – почему дочери Валента не пытаются бунтовать, как она? Но поразмыслив, перестала удивляться. Прежде всего, потому, что они – женщины, а Валент им отец; и у них нет в подчинении никаких людей, хотя они и гораздо знатнее ее, боярской холопки. Но девицы – всегда заложницы в отцовском доме, что здесь, что на Руси…
И они, конечно, надеются, что отец устроит их судьбу. Согласятся и на турок – что еще им остается?
Теокл поправился быстро: рана у него была глубокая, но неопасная. Когда он стал выходить из дому и снова взял в руки оружие, вернулся хозяин.
Валент Аммоний, подъезжающий к дому, показался Феодоре чужим и мрачным… в первые мгновения, когда московитка узнала его, он испугал ее так, точно она опять увидела его во главе тысячи азиатов, грозивших ей и ее детям смертью. Но когда она подбежала ближе, вместе с Мардонием, Валент посмотрел на них и широко улыбнулся.
Улыбка совершенно преобразила его лицо.
Он махнул рукой сыну, и мальчик радостно подбежал: отец подхватил его в седло и расцеловал. Потом уже, спустив на землю сына, позвал русскую жену.
Феодора ответила на крепкое объятие и поцелуй - но так, что Валент отстранил ее от себя и впился в нее взглядом:
- Какая холодная встреча! Ты мне не рада?
- Тебя так долго не было, что я отвыкла, - сказала Феодора, прижимаясь к нему.
Валент нахмурил четкие черные брови.
- Едем домой – приготовишь мне поесть с дороги и ванну! Успеешь привыкнуть!
Феодора кивнула; ее царапнула обида и страх. Валент не вспомнил о том, что обещал ей привезти; ничего не сказал о том, чем занимался, с кем виделся! Но, может быть, расскажет позже.
Валент и в самом деле оттаял после сытной еды и купания – он просто очень устал, и не желал разговаривать, как всякий усталый мужчина; но когда он отдохнул и повеселел, сразу же приказал Феодоре принести свою седельную сумку, из которой вытряхнул прямо на вытертый ковер груду свитков.
- Это тебе! Развлекайся – надолго хватит!
Феодора засмеялась, всплеснув руками.
- Ты что, ограбил кого-нибудь? Так много!
Новый муж смеялся в ответ, ничуть не оскорбившись таким предположением. Подмигнул ей.
- Ограбил кого следует, женушка!
Феодора перестала улыбаться и молча собрала свитки, перевязав их бечевкой: ей пришлось сделать это несколько раз, связывая книги по десять штук. Теперь она не сомневалась, что Валент ради нее пошел на крупную кражу. Хотя – так ли это важно? Может, и лучше, что книги будут сохраняться у нее, а не достанутся ученому турку – для бахвальства или неученому – в костер!
Главное, чтобы Валент никого не убил…
Когда она закончила с книгами, муж вдруг позвал ее из дома.
- Поедем прогуляемся!
Феодора не решилась перечить, хотя было уже поздно; наверное, у Валента нашлась какая-то причина этого потребовать. Она приказала оседлать Тессу и свежую лошадь для мужа.
Они поскакали по тропке, по которой уже не раз прогуливались верхом при свете дня; сейчас Феодоре было боязно, но и восхитительно… наедине с этим ужасным и восхитительным человеком, которому могло взбрести в голову что угодно!
Они остановились, когда дом скрылся позади, на лужайке, стиснутой между двумя склонами. Здесь, кажется, даже не выпасали коз – травяное ложе было слишком мало, а пробираться к нему было неудобно…
Они спешились, стреножили лошадей, а потом Валент сразу же увлек жену на траву. Она опрокинулась на спину, увидев над головой звезды – близкие, огромные. И больше ничего не успела увидеть.
Валент любил ее молча, долго, с такою же жадностью и наслаждением, с каким насыщался после долгой дороги. И ей не нужно было ничего говорить, и не нужно сдерживать себя: они сливались точно Адам и Ева в раю, первые на свете и безгрешные люди! Нет, не люди: счастливые бессмертные – в них сейчас не осталось ничего христианского, и вокруг них тоже: только дикая жизнь, которая в конце концов торжествовала над всеми людьми и их измышлениями, все человеческие грешки зарастали травой.
Потом они долго лежали рядом на расстеленных плащах, глядя в небо. Валент улыбался – он был совершенно счастлив. Можно ли было сомневаться, что жена принадлежит ему всецело, – услышав ее крики, увидев содрогания! Когда она начнет притворяться, он сразу поймет…
С первой женой он понял быстро, хотя был и куда моложе. Но первую он не любил – и понял, что значит любовь, только теперь!
И, конечно, не может быть и речи о том, чтобы отпустить эту женщину, даже если она охладеет к нему. Женщины остывают быстро, это верно: но чтобы он утратил пыл, нужно очень постараться. И она - мать его ребенка, его собственность, выкуп за кровь брата… нет, он скорее убьет ее, чем позволит сбежать!
Валент ощущал эту спокойную уверенность, когда тронул жену за подбородок, заставив повернуть голову. Она улыбалась ему умиротворенной улыбкой; и была, несомненно, так же счастлива.
Но под этим счастьем бродили мысли, точно отбившиеся от стада козы, – когда азиаты доложат хозяину о ее попытке к бегству; и что будет, когда это произойдет. А, да что бы ни было!
Феодора рассмеялась и поцеловала его.
- Тебе хорошо? – спросил Валент.
- Очень хорошо, - искренне ответила пленница.
Re: Ставрос
Глава 85
К лету Феофано уже почти отвыкла – и отдохнула от своей роли; если не считать ее яростных телесных упражнений. Те влиятельные люди – греки, европейцы, даже османы, которые были на ее стороне, - казалось, забыли царицу амазонок: впрочем, она не удивлялась этому. Метаксия Калокир долго была искусным политиком – тогда, когда в империи еще сохранялось мнимое спокойствие и такие же книжные люди, стратеги, как она, могли направлять судьбу Византии: эти женские войны продолжались столетиями. Но потрясения, которые империя переживала сейчас, крушение всего и передел мира, требовали мужчин и героев!
Валент был прав… во многом: но Феофано тоже утвердила свою правду, оставив о себе кровавую и славную память – ее деяния еще долго будут изумлять людей. И ее, скорее всего, будут бранить. Удивительно!
Нет, ничего удивительного, - ведь историю пишут мужчины.
"Я думаю так, точно я уже умерла, - насмешливо размышляла патрикия. – Но я живу именно сейчас… и надеюсь, что когда умру, буду способна думать об этом! Иначе ничего на свете не имеет значения!"
А в июле ее вдруг посетил неожиданный гость – гость, напомнивший ей о том, что ее не забудут: что слишком многим она прочертила по сердцу кровавые борозды, заставляла восхищаться - и заставляла людей жить ее жизнью, а не своей.
Этого гостя Феофано видела в лицо в первый раз, но заочно знала его давно: и поняла, кто перед нею, сразу, так же, как и он.
Высокий широкоплечий кареглазый грек с буйными черными волосами, сколотыми бронзовой заколкой, и в пестром платье спрыгнул с коня и пошел навстречу ей, покачиваясь, - походкой человека, привыкшего повелевать кораблем в шторм. Он не улыбался – смотрел своими карими глазами пытливо и изумленно, точно спрашивал хозяйку о каком-то горьком потрясении своей жизни…
Феофано печально улыбнулась и протянула Леонарду Флатанелосу руку. Он учтиво поклонился и коснулся губами ее пальцев.
При этом он не сводил с Феофано своих карих обличающих глаз – Феофано не выдержала этого и отвернулась.
- Я не люблю, когда мне целуют руки, - сухо сказала она вместо приветствия. – Я твой товарищ, а не дама, комес Флатанелос!
Комес печально рассмеялся.
- Ты не товарищ – ты моя царица, - сказал он: словно бы сомневаясь сейчас, что женщина вообще может быть товарищем.
Феофано молча покачала головой, словно бы винясь в своих преступлениях – и отметая их; потом повернулась, сделав комесу знак. Они уже многое сказали друг другу этим приветствием; и ей не терпелось узнать остальное, без долгих предисловий.
Гость проследовал за Феофано, и она, входя в дом, послала позаботиться о его лошади кстати попавшегося навстречу конюха. Введя Леонарда в прохладную полутемную гостиную, Феофано усадила его, молясь, чтобы брат или Марк сейчас не вошли; и, хлопнув в ладоши, распорядилась о вине. Какую бы неприязнь комес ни питал к ней, промочить горло, да еще в такую жару, он не откажется.
Когда принесли кувшин вина и кубки, Феофано сама налила ему и себе. Подняла свой кубок – и комес, с небольшой улыбкой, пристукнул о ее кубок своим. Он мог затаить на нее великую обиду – но не был мелочен.
Они выпили: комес выпил с удовольствием. Потом сказал:
- Славное вино… Это с твоих виноградников?
- Из погребов моего покойного мужа… Старые запасы, - досадливо ответила Феофано. – У меня уже давно нет времени делать вино, а Лев знал в нем толк…
Она покраснела, хмурясь еще больше под пытливым взглядом прославленного морехода.
- Я слышал, что твое родовое имение – Калокиров – разорено турками? – спросил Леонард наконец.
- Да, - бросила патрикия, вздрогнув; она, казалось, привыкла думать о случившемся спокойно, но напоминание из уст этого гостя было как удар хлыста.
Комес дотронулся до ее обнаженного локтя теплой сильной рукой, заставив еще раз содрогнуться.
- Мне очень жаль, - прошептал Леонард.
Его голос и прикосновение покоряли, чаровали – и Феофано с трудом освободилась из-под власти этого странного человека. Иной, нежели та грубая, яркая власть, которую имели над ней братья Аммонии.
- Как ты узнал, где найти меня… и кто я такая? – резко спросила она.
- Это было не так трудно, царица, - усмехнулся мореход.
Феофано рассмеялась, поняв, какую глупость сморозила: она была польщена и досадовала на свою славу, которая следует за людьми по пятам даже тогда, когда они совсем не хотят ее.
Потом комес сказал:
- Я узнал и другое, Феофано.
Феофано быстро повернулась к нему – и они посмотрели друг другу в глаза. Комес кивнул и усмехнулся с какой-то горькой гадливостью.
- Я не виновата! – быстро сказала Феофано, выставляя руку в отвращающем жесте. – Никто не думал, что так получится! Кто больше меня мучается…
- Я знаю, что ты мучаешься, - тихо ответил Леонард.
Он опустил голову – конечно, такое нельзя было простить или забыть, кто бы сколько ни мучился. Это можно было только… пережить, искупив, - при своей ли жизни? Разве когда-нибудь кровавые счеты между знатными семьями кончались скоро – чаще всего они длились столько же, сколько жили враждующие роды… Такова человеческая природа!
Комес откинулся на спинку кресла и глубоко вздохнул.
- Что бы я только ни отдал, лишь бы только попасть домой на полгода раньше, - прошептал он, возведя глаза кверху и запустив руки в пышные волосы. – Боже святый! Я каждый день, каждый час боюсь, что она может погибнуть! Это настоящий безумец!
- Такой же, как ты, - рассмеялась Феофано. – Думаю, он ее не тронет… еще долго, если моя Феодора не возбудит в нем ревность. А тогда нельзя поручиться за жизнь никого из его домашних – Валент в гневе и вправду бывает настоящим зверем, как и оба его брата! Удивительно, что у такого отца родились такие тихие и хилые сыновья!
Леонард стукнул кулаком по столу.
- Уж не поэтому ли он похитил ее – желает крепкого потомства!..
Феофано вдруг склонилась к комесу через стол, изумленно подняв брови, - крупный твердый рот дрогнул:
- Так ты говорил с ним… и все еще жив? Могу вообразить ваш разговор!..
- Он чуть не заколол меня, подкараулив ночью с кинжалом на Августейоне, - хладнокровно сказал Леонард, - но почему-то передумал резать. Благородство крови не позволило! – усмехнулся он.
Феофано выпрямилась.
- Пожалуй, - серьезно сказала она. – Это, в своем роде, очень честный предатель! Ты слышал о том, что произошло во время сражения с Ибрахимом-пашой?
Леонард покачал головой; и тогда Феофано быстро пересказала ему то, что так хорошо еще помнила. Леонард был изумлен – но не слишком. Должно быть, подвердилось его предположение о характере Валента.
- Но с таким человеком она как на пороховой бочке, - сказал моряк. – Надеюсь, что с ней все будет благополучно!
Он сжал кулаки и покачал головой – как будто все еще не верил, что не сумел предупредить Валента, защитить свою подругу… Феофано мягко улыбнулась.
- А может, тебе отступиться от нее? Кто знает – может, она счастлива? – спросила патрикия.
- Нет! – вырвалось у Леонарда.
Он на самом деле напоминал Валента куда больше, чем ему казалось самому. И, пожалуй, в свое время гремел такими же деяниями. Два героя Византии!
- Но пока… ты ничего не сможешь сделать, да и только навредишь самому себе, не говоря о ней, - сказала Феофано. – Мне думается, Валент увез ее куда-то в Азию, в Каппадокию, и спрятал в горах – пока все не кончится! А там…
- Да, - сказал Леонард.
Он побледнел, карие глаза потемнели и застыли – он прекрасно понимал, чего можно ждать. Закрыл лицо руками.
- Я бы пожелал ему смерти, немедленной, - прошептал комес. – Но это невозможно – никому из нас нельзя избавиться от него! Какая насмешка, василисса!
- О, это наверняка устроил мой покойный муж, - сказала Феофано; она мрачно посмеивалась. – Хотя – не слишком ли тонка и хитроумна для него подобная месть?
Леонард вскинул глаза – Феофано и шутила, и была очень серьезна.
- Ты думаешь, мертвые могут так мстить живым? – спросил он.
- Почему бы и нет? – отозвалась Феофано. – Я прожила долгую жизнь, но, двигаясь к смерти, поняла только одно: смерть слишком великое событие, чтобы охватить ее нашим ничтожным разумом!
Они помолчали, словно ощутив, как давят стены этого дома. В самом ли деле они давили – так, что грудь спирало; или обоим собеседникам, слишком развитым и чутким, лишь представлялось?
И тут послышались чьи-то шаги; шаги замерли на пороге. Феофано спокойно повернулась.
- Брат, - произнесла она, - это комес Флатанелос! Подойди и поприветствуй его!
В самом деле – что такое патрикий Нотарас рядом с Валентом?
Фома медленно подошел. Волосы у него отросли почти до плеч; он несколько расплылся, несмотря на свое горе, - и комес, оглядывая соперника с головы до ног, подумал, что именно таким и должен был сделаться муж Феодоры, от которого он столь долго страстно мечтал освободить ее!
Что ж, такие страстные желания боги исполняют…
Комес встал и протянул патрикию руку. Фома, с иронической улыбкой, пожал его руку: вялым, коротким пожатием сибарита-римлянина, который во всем разочаровался – и во всем, что повидал, и во всем, чего еще не видел в этой жизни!
- Рад наконец видеть вас в моем доме, - сказал он. – Моя "Клеопатра" все еще дожидается своего хозяина в Золотом Роге – но едва ли мы еще когда-нибудь прокатимся на хеландии вместе!
- Как знать, - серьезно сказал комес.
Оба сели.
Фома надолго замолчал, устремив взгляд в пол. Комес несколько раз открывал рот – но понял, что все, сказанное им, будет неуместно и даже оскорбительно. Феофано вполголоса приказала принести вина также и брату – хотя патрикий и без этого слишком налегал на вино в последние месяцы…
Потом Фома вдруг поднял голову и скользнул по фигуре комеса взглядом, с каким-то странным детским любопытством.
- Я думал, что это у вас борода, как раньше, - сказал он, - а вы ее сбрили, и это только щетина!
Комес усмехнулся.
- Ну да, сбрил – по-европейски, - ответил он, касаясь своего подбородка. – В католических странах не любят бород, хотя европейцы очень неопрятны... Но они много внимания уделяют внешности и манерам, не заботясь в действительности о своем теле – о том, что спрятано под одеждами!
Оба поморщились. Но патрикий даже не видел ничего из того, что перевидал, перенюхал и перещупал комес! Фоме Нотарасу все приносили готовым, чтобы он обогатил свой тонкий разум!
А потом вдруг Фома сказал:
- Я хотел посоветоваться с вами… Вы, конечно, объездили весь свет, пока мы сидели здесь…
- Сидели! Нет, вы не сидели, - усмехнулся Леонард.
Кто-то, может, и сидел – но не след всех мерить по себе…
- Что вам угодно знать? – спросил он: почему-то с этим человеком и хотелось перейти на "ты", как со старым знакомым и невольным союзником, - и никак невозможно было перескочить. Фома Нотарас был самый большой римлянин из них троих! И, вероятно, - намного легче мог бы сделаться европейцем!
- Я хотел поговорить с вами… о Священной Римской империи, - прошептал Фома, косясь на сестру: как будто даже ей не следовало присутствовать при такой беседе. Феофано, конечно, никуда не двинулась – только едва заметно презрительно улыбнулась.
"Ищет пути к отступлению!" - подумал и комес.
Что ж, едва ли Фому Нотараса можно было в этом упрекать…
Феофано поднялась.
- Кажется, вы хотите поговорить наедине! - сказала она, бросив взгляд на брата. От этого взгляда он чуть не вжал голову в плечи. – Не буду мешать!
Она стремительно вышла.
Оставшись вдвоем, два бывших соперника долго смотрели друг другу в глаза – комес со спокойным пониманием, в котором даже не было презрения; а Фома стыдясь, то и дело опуская взгляд и снова поднимая.
- Я никогда бы не бросил здесь моей жены и детей, пока еще есть надежда, - прошептал он: наполовину догадываясь, наполовину зная, что привело Леонарда Флатанелоса в дом сестры. – Но с каждым днем…
Леонард кивнул.
- Конечно, - сказал он. Фома отвернулся, не вынеся спокойного, доброжелательного взгляда комеса. – Я расскажу вам все, что знаю, патрикий, - закончил Леонард.
Фома, страдая, вдруг схватил его за руку.
- Прошу вас… давайте говорить друг другу "ты", как братья! Теперь мы все братья, что бы нас ни разделяло!
Сделать такой шаг было комесу труднее всего – даже с Валентом легко получалось "ты", но не с этим мужем Феодоры, который не сумел ее устеречь.
Леонард кивнул.
- Хорошо, согласен. Задавай свои вопросы.
Он надеялся, что сможет отвечать достаточно пространно, чтобы успеть привыкнуть к новому обращению с патрикием.
Они говорили долго, увлеченно – патрикий расспрашивал жадно и, казалось, добился того, чего хотел. И только поговорив о Европе и ее священных союзах, завели речь о Константинополе.
Леонард сказал, что намерен вернуться в Город как можно быстрее, - Феофано приглашала было его погостить, но сразу же отступилась, когда комес отказался. Ему нельзя было задерживаться ни дня, каждый мог стать решающим!
Хозяйку Леонард с собой не звал, понимая всю опасность такого путешествия для царицы амазонок, – и теперь ее появление в Городе наделало бы слишком много шуму.
Прощаясь, Леонард пристально посмотрел на патрикия – его он, разумеется, тоже не звал; но одного взгляда Фоме было достаточно, чтобы стиснуть зубы от неизбывного стыда.
Комес крепко пожал руки обоим – Феофано горячо стиснула его пальцы в ответ, а Фома, казалось, спешил выдернуть свою руку – и быстрым шагом покинул гостиную. Леонард Флатанелос просил его не провожать.
К лету Феофано уже почти отвыкла – и отдохнула от своей роли; если не считать ее яростных телесных упражнений. Те влиятельные люди – греки, европейцы, даже османы, которые были на ее стороне, - казалось, забыли царицу амазонок: впрочем, она не удивлялась этому. Метаксия Калокир долго была искусным политиком – тогда, когда в империи еще сохранялось мнимое спокойствие и такие же книжные люди, стратеги, как она, могли направлять судьбу Византии: эти женские войны продолжались столетиями. Но потрясения, которые империя переживала сейчас, крушение всего и передел мира, требовали мужчин и героев!
Валент был прав… во многом: но Феофано тоже утвердила свою правду, оставив о себе кровавую и славную память – ее деяния еще долго будут изумлять людей. И ее, скорее всего, будут бранить. Удивительно!
Нет, ничего удивительного, - ведь историю пишут мужчины.
"Я думаю так, точно я уже умерла, - насмешливо размышляла патрикия. – Но я живу именно сейчас… и надеюсь, что когда умру, буду способна думать об этом! Иначе ничего на свете не имеет значения!"
А в июле ее вдруг посетил неожиданный гость – гость, напомнивший ей о том, что ее не забудут: что слишком многим она прочертила по сердцу кровавые борозды, заставляла восхищаться - и заставляла людей жить ее жизнью, а не своей.
Этого гостя Феофано видела в лицо в первый раз, но заочно знала его давно: и поняла, кто перед нею, сразу, так же, как и он.
Высокий широкоплечий кареглазый грек с буйными черными волосами, сколотыми бронзовой заколкой, и в пестром платье спрыгнул с коня и пошел навстречу ей, покачиваясь, - походкой человека, привыкшего повелевать кораблем в шторм. Он не улыбался – смотрел своими карими глазами пытливо и изумленно, точно спрашивал хозяйку о каком-то горьком потрясении своей жизни…
Феофано печально улыбнулась и протянула Леонарду Флатанелосу руку. Он учтиво поклонился и коснулся губами ее пальцев.
При этом он не сводил с Феофано своих карих обличающих глаз – Феофано не выдержала этого и отвернулась.
- Я не люблю, когда мне целуют руки, - сухо сказала она вместо приветствия. – Я твой товарищ, а не дама, комес Флатанелос!
Комес печально рассмеялся.
- Ты не товарищ – ты моя царица, - сказал он: словно бы сомневаясь сейчас, что женщина вообще может быть товарищем.
Феофано молча покачала головой, словно бы винясь в своих преступлениях – и отметая их; потом повернулась, сделав комесу знак. Они уже многое сказали друг другу этим приветствием; и ей не терпелось узнать остальное, без долгих предисловий.
Гость проследовал за Феофано, и она, входя в дом, послала позаботиться о его лошади кстати попавшегося навстречу конюха. Введя Леонарда в прохладную полутемную гостиную, Феофано усадила его, молясь, чтобы брат или Марк сейчас не вошли; и, хлопнув в ладоши, распорядилась о вине. Какую бы неприязнь комес ни питал к ней, промочить горло, да еще в такую жару, он не откажется.
Когда принесли кувшин вина и кубки, Феофано сама налила ему и себе. Подняла свой кубок – и комес, с небольшой улыбкой, пристукнул о ее кубок своим. Он мог затаить на нее великую обиду – но не был мелочен.
Они выпили: комес выпил с удовольствием. Потом сказал:
- Славное вино… Это с твоих виноградников?
- Из погребов моего покойного мужа… Старые запасы, - досадливо ответила Феофано. – У меня уже давно нет времени делать вино, а Лев знал в нем толк…
Она покраснела, хмурясь еще больше под пытливым взглядом прославленного морехода.
- Я слышал, что твое родовое имение – Калокиров – разорено турками? – спросил Леонард наконец.
- Да, - бросила патрикия, вздрогнув; она, казалось, привыкла думать о случившемся спокойно, но напоминание из уст этого гостя было как удар хлыста.
Комес дотронулся до ее обнаженного локтя теплой сильной рукой, заставив еще раз содрогнуться.
- Мне очень жаль, - прошептал Леонард.
Его голос и прикосновение покоряли, чаровали – и Феофано с трудом освободилась из-под власти этого странного человека. Иной, нежели та грубая, яркая власть, которую имели над ней братья Аммонии.
- Как ты узнал, где найти меня… и кто я такая? – резко спросила она.
- Это было не так трудно, царица, - усмехнулся мореход.
Феофано рассмеялась, поняв, какую глупость сморозила: она была польщена и досадовала на свою славу, которая следует за людьми по пятам даже тогда, когда они совсем не хотят ее.
Потом комес сказал:
- Я узнал и другое, Феофано.
Феофано быстро повернулась к нему – и они посмотрели друг другу в глаза. Комес кивнул и усмехнулся с какой-то горькой гадливостью.
- Я не виновата! – быстро сказала Феофано, выставляя руку в отвращающем жесте. – Никто не думал, что так получится! Кто больше меня мучается…
- Я знаю, что ты мучаешься, - тихо ответил Леонард.
Он опустил голову – конечно, такое нельзя было простить или забыть, кто бы сколько ни мучился. Это можно было только… пережить, искупив, - при своей ли жизни? Разве когда-нибудь кровавые счеты между знатными семьями кончались скоро – чаще всего они длились столько же, сколько жили враждующие роды… Такова человеческая природа!
Комес откинулся на спинку кресла и глубоко вздохнул.
- Что бы я только ни отдал, лишь бы только попасть домой на полгода раньше, - прошептал он, возведя глаза кверху и запустив руки в пышные волосы. – Боже святый! Я каждый день, каждый час боюсь, что она может погибнуть! Это настоящий безумец!
- Такой же, как ты, - рассмеялась Феофано. – Думаю, он ее не тронет… еще долго, если моя Феодора не возбудит в нем ревность. А тогда нельзя поручиться за жизнь никого из его домашних – Валент в гневе и вправду бывает настоящим зверем, как и оба его брата! Удивительно, что у такого отца родились такие тихие и хилые сыновья!
Леонард стукнул кулаком по столу.
- Уж не поэтому ли он похитил ее – желает крепкого потомства!..
Феофано вдруг склонилась к комесу через стол, изумленно подняв брови, - крупный твердый рот дрогнул:
- Так ты говорил с ним… и все еще жив? Могу вообразить ваш разговор!..
- Он чуть не заколол меня, подкараулив ночью с кинжалом на Августейоне, - хладнокровно сказал Леонард, - но почему-то передумал резать. Благородство крови не позволило! – усмехнулся он.
Феофано выпрямилась.
- Пожалуй, - серьезно сказала она. – Это, в своем роде, очень честный предатель! Ты слышал о том, что произошло во время сражения с Ибрахимом-пашой?
Леонард покачал головой; и тогда Феофано быстро пересказала ему то, что так хорошо еще помнила. Леонард был изумлен – но не слишком. Должно быть, подвердилось его предположение о характере Валента.
- Но с таким человеком она как на пороховой бочке, - сказал моряк. – Надеюсь, что с ней все будет благополучно!
Он сжал кулаки и покачал головой – как будто все еще не верил, что не сумел предупредить Валента, защитить свою подругу… Феофано мягко улыбнулась.
- А может, тебе отступиться от нее? Кто знает – может, она счастлива? – спросила патрикия.
- Нет! – вырвалось у Леонарда.
Он на самом деле напоминал Валента куда больше, чем ему казалось самому. И, пожалуй, в свое время гремел такими же деяниями. Два героя Византии!
- Но пока… ты ничего не сможешь сделать, да и только навредишь самому себе, не говоря о ней, - сказала Феофано. – Мне думается, Валент увез ее куда-то в Азию, в Каппадокию, и спрятал в горах – пока все не кончится! А там…
- Да, - сказал Леонард.
Он побледнел, карие глаза потемнели и застыли – он прекрасно понимал, чего можно ждать. Закрыл лицо руками.
- Я бы пожелал ему смерти, немедленной, - прошептал комес. – Но это невозможно – никому из нас нельзя избавиться от него! Какая насмешка, василисса!
- О, это наверняка устроил мой покойный муж, - сказала Феофано; она мрачно посмеивалась. – Хотя – не слишком ли тонка и хитроумна для него подобная месть?
Леонард вскинул глаза – Феофано и шутила, и была очень серьезна.
- Ты думаешь, мертвые могут так мстить живым? – спросил он.
- Почему бы и нет? – отозвалась Феофано. – Я прожила долгую жизнь, но, двигаясь к смерти, поняла только одно: смерть слишком великое событие, чтобы охватить ее нашим ничтожным разумом!
Они помолчали, словно ощутив, как давят стены этого дома. В самом ли деле они давили – так, что грудь спирало; или обоим собеседникам, слишком развитым и чутким, лишь представлялось?
И тут послышались чьи-то шаги; шаги замерли на пороге. Феофано спокойно повернулась.
- Брат, - произнесла она, - это комес Флатанелос! Подойди и поприветствуй его!
В самом деле – что такое патрикий Нотарас рядом с Валентом?
Фома медленно подошел. Волосы у него отросли почти до плеч; он несколько расплылся, несмотря на свое горе, - и комес, оглядывая соперника с головы до ног, подумал, что именно таким и должен был сделаться муж Феодоры, от которого он столь долго страстно мечтал освободить ее!
Что ж, такие страстные желания боги исполняют…
Комес встал и протянул патрикию руку. Фома, с иронической улыбкой, пожал его руку: вялым, коротким пожатием сибарита-римлянина, который во всем разочаровался – и во всем, что повидал, и во всем, чего еще не видел в этой жизни!
- Рад наконец видеть вас в моем доме, - сказал он. – Моя "Клеопатра" все еще дожидается своего хозяина в Золотом Роге – но едва ли мы еще когда-нибудь прокатимся на хеландии вместе!
- Как знать, - серьезно сказал комес.
Оба сели.
Фома надолго замолчал, устремив взгляд в пол. Комес несколько раз открывал рот – но понял, что все, сказанное им, будет неуместно и даже оскорбительно. Феофано вполголоса приказала принести вина также и брату – хотя патрикий и без этого слишком налегал на вино в последние месяцы…
Потом Фома вдруг поднял голову и скользнул по фигуре комеса взглядом, с каким-то странным детским любопытством.
- Я думал, что это у вас борода, как раньше, - сказал он, - а вы ее сбрили, и это только щетина!
Комес усмехнулся.
- Ну да, сбрил – по-европейски, - ответил он, касаясь своего подбородка. – В католических странах не любят бород, хотя европейцы очень неопрятны... Но они много внимания уделяют внешности и манерам, не заботясь в действительности о своем теле – о том, что спрятано под одеждами!
Оба поморщились. Но патрикий даже не видел ничего из того, что перевидал, перенюхал и перещупал комес! Фоме Нотарасу все приносили готовым, чтобы он обогатил свой тонкий разум!
А потом вдруг Фома сказал:
- Я хотел посоветоваться с вами… Вы, конечно, объездили весь свет, пока мы сидели здесь…
- Сидели! Нет, вы не сидели, - усмехнулся Леонард.
Кто-то, может, и сидел – но не след всех мерить по себе…
- Что вам угодно знать? – спросил он: почему-то с этим человеком и хотелось перейти на "ты", как со старым знакомым и невольным союзником, - и никак невозможно было перескочить. Фома Нотарас был самый большой римлянин из них троих! И, вероятно, - намного легче мог бы сделаться европейцем!
- Я хотел поговорить с вами… о Священной Римской империи, - прошептал Фома, косясь на сестру: как будто даже ей не следовало присутствовать при такой беседе. Феофано, конечно, никуда не двинулась – только едва заметно презрительно улыбнулась.
"Ищет пути к отступлению!" - подумал и комес.
Что ж, едва ли Фому Нотараса можно было в этом упрекать…
Феофано поднялась.
- Кажется, вы хотите поговорить наедине! - сказала она, бросив взгляд на брата. От этого взгляда он чуть не вжал голову в плечи. – Не буду мешать!
Она стремительно вышла.
Оставшись вдвоем, два бывших соперника долго смотрели друг другу в глаза – комес со спокойным пониманием, в котором даже не было презрения; а Фома стыдясь, то и дело опуская взгляд и снова поднимая.
- Я никогда бы не бросил здесь моей жены и детей, пока еще есть надежда, - прошептал он: наполовину догадываясь, наполовину зная, что привело Леонарда Флатанелоса в дом сестры. – Но с каждым днем…
Леонард кивнул.
- Конечно, - сказал он. Фома отвернулся, не вынеся спокойного, доброжелательного взгляда комеса. – Я расскажу вам все, что знаю, патрикий, - закончил Леонард.
Фома, страдая, вдруг схватил его за руку.
- Прошу вас… давайте говорить друг другу "ты", как братья! Теперь мы все братья, что бы нас ни разделяло!
Сделать такой шаг было комесу труднее всего – даже с Валентом легко получалось "ты", но не с этим мужем Феодоры, который не сумел ее устеречь.
Леонард кивнул.
- Хорошо, согласен. Задавай свои вопросы.
Он надеялся, что сможет отвечать достаточно пространно, чтобы успеть привыкнуть к новому обращению с патрикием.
Они говорили долго, увлеченно – патрикий расспрашивал жадно и, казалось, добился того, чего хотел. И только поговорив о Европе и ее священных союзах, завели речь о Константинополе.
Леонард сказал, что намерен вернуться в Город как можно быстрее, - Феофано приглашала было его погостить, но сразу же отступилась, когда комес отказался. Ему нельзя было задерживаться ни дня, каждый мог стать решающим!
Хозяйку Леонард с собой не звал, понимая всю опасность такого путешествия для царицы амазонок, – и теперь ее появление в Городе наделало бы слишком много шуму.
Прощаясь, Леонард пристально посмотрел на патрикия – его он, разумеется, тоже не звал; но одного взгляда Фоме было достаточно, чтобы стиснуть зубы от неизбывного стыда.
Комес крепко пожал руки обоим – Феофано горячо стиснула его пальцы в ответ, а Фома, казалось, спешил выдернуть свою руку – и быстрым шагом покинул гостиную. Леонард Флатанелос просил его не провожать.
Re: Ставрос
Глава 86
Феодора скоро поняла, что похититель не стесняет ее, - стеснял лишь настолько, насколько это требовалось для узницы, которую без него стерегли и горы, и воины совершенно чужих племен и обычаев, обладавшие всеми человеческими навыками превосходных убийц и, вместе с этим, звериным чутьем; и крепче всех цепей ее держали дети, настоящие - и тот, который только ждал своего часа в ее утробе.
Быть может, ей следовало ненавидеть Валента до самого конца; но это было свыше человеческих - и уж точно свыше женских сил.
К тому же, новый муж очень кстати нашел ей развлечение, потребность в котором замучила ее: беда всех книжных людей. Ее разум, не получавший новой пищи, был как зверь, грызущий прутья клетки, - она могла свыкнуться с азиатскими штанами, по-македонски скакать на коне, оставшись русской холопкой с лица, - но внутри, стараниями Фомы и Феофано, давно и безвозвратно сделалась воспитанной гречанкой, с неуемной жаждой познания и расширения границ своей души.
Феодора занималась подаренными книгами одна – дом был достаточно просторен для уединения; и московитка начала, точно библиотекарь, не с чтения, а с разбора свитков. Ей хотелось разложить эти сочинения по порядку – считая от самых старых.
Она не умела определять возраст по ветхости кожи или бумаги, в чем наверняка поднаторели греческие ученые; и знала, что греческие письмена различаются, как различается до сих пор язык выходцев из бывших греческих царств, которые объединила под своею властью Византия. Этих различий она до сих пор не выучила: Феофано так и не успела ей объяснить. Но в разборе ей немало помогли имена государей, которые встречались в свитках, - ей попалось имя Комнинов, династии василевсов, которые правили в Буколеоне, и записи, делавшиеся собственноручно тем или иным императором, царевичем или царевной. Государственного значения эти записи не имели – но василевсы нередко были талантливыми сочинителями и умели живописать то, что видели вокруг, давать назидания потомкам или мудрую оценку исторических событий, которым были свидетелями. Другое дело – многие ли слушали их назидания; и кому, кроме них самих, были нужны эти оценки, столетиями пылившиеся в архивах? Наверняка даже придворные не читали сочинений своих императоров!
"Феофано правее их всех, - думала Феодора, - правее, хотя она великая грешница в глазах церкви и притом в ней нет ни капли царской крови! Но такие люди, как она, достойны зачинать новые династии!"
Встречались и сочинения философов, поэтов и писателей – по большей части копии работ римских и греческих сочинителей. Новая мысль в империи угасла давно. Из нового Феодоре встретились только работы императорских хронистов и историков: им, как византийским грекам, не нужно уже было силы творения, а только способность к наблюдению и оценке – способность, ценная в стариках, устранившихся от жизни!
Какой бодрящей была порою бесцеремонность Валента – который мог ворваться к ней в любую минуту и, схватив на руки, унести из ее кабинета навстречу солнцу, птицам и цветам; или в спальню – любить.
Потом Валент жадно расспрашивал жену о том, что нового она узнала: и ей поначалу было нечего ему ответить. Что нового может быть для человека, который мало знаком со старым? Что может сказать человеку, не знающему истории, имя философа или поэта, который уже две тысячи лет как мертв? Латинские вирши мало трогали Валента; но он с неожиданным увлечением слушал поэмы титана Гомера, которые Феодора частью знала наизусть, частью нашла в украденных мужем свитках: у многих сочинений не хватало половины или больше…
Но, казалось, подозревать ее и ревновать к этому делу Валент перестал. Снисходительно, как Фома, восхитившись способностями московитки, он целовал ее и покидал для своих мужских занятий, которые были совершенно ей чужды. Чтобы она, окончив чтение древних, смогла приняться за собственные сочинения.
Вначале Валент даже не знал, что жена пишет свое: если бы узнал, конечно, вмешался бы и выразил желание немедленно прочитать все, загубив ее новые мысли и слова на корню.
Но увидеть и выдать ее было некому – и она писала, куда более плодотворно, чем усталые василевсы Буколеона.
Ей ничего не было за попытку бежать – хотя Валент, несомненно, обо всем догадался; и спустил ей это так же, как оставил ей кинжал. Несомненно, ее это возбуждало – как и его; и не давало задремать ее уму, как и телу!
К июлю пошел восьмой месяц ее срока – она стала уставать больше обычного и отворачиваться от Валента, который, впрочем, тоже теперь осторожничал; но чувствовала себя здоровее, чем когда-либо с Фомой, вынашивая его детей. Македонец давал ей свою силу, бьющую через край, - ему было не жалко, в отличие от патрикия!
- Ты вся цветешь, - говорил он ей; и щипал то за зарумянившуюся щеку, то за живот, то за ягодицу, восхищаясь ею целиком; это был восторг сына природы, которому еще не втолковали в церкви, что в человеке есть скверность. Усевшись на каменную скамью перед домом, Валент вертел ее и оглаживал своими большими ладонями, поставив между колен.
- У нас будет сын, я уверен, - повторял он – так часто, точно она могла забыть, что носит его ребенка.
Феодора пряла козью шерсть, ткала и вязала, готовя приданое плоду их странной краденой любви: кто бы это ни был.
Она знала, что рожать придется без помощи врача или повитухи – Валент не мог никому сказать, а Феодора не доверяла никому из селений в предгорьях; но у нее оставалась Магдалина, которой случалось помогать в родах. И, к ее изумлению, в таком опыте признался и Валент. Без всякого смущения или отвращения, которые охватили бы католика или мусульманина, вовлеченного в столь непристойное, самое женское дело.
Валент Аммоний признался, что дважды принимал роды у своей первой жены – принял обоих своих сыновей. Как вышло, что не нашлось повитухи; или, может, он не допустил – этого македонец не сказал.
Раньше он говорил, что помогал в родах своим кобылам, - но ведь лошадь это совсем не то, что женщина! Лучше женщина или хуже – зависело, конечно, от веры и обычаев; но смущение перед женой испытывали все мужчины…
Валент заявил, что, как первым двоим, будет помогать рождаться и третьему своему сыну: повторил, что будет сын, с такой горделиво-мрачной уверенностью, что Феодора не посмела возразить, как во все предыдущие разы.
"Фома не вынес бы, если бы увидел мои роды. Или навсегда отвернулся бы от меня после такого зрелища", - подумала Феодора: и невольное восхищение, благодарность к этому насильнику охватили ее.
Ей подумалось, что ребенок останется некрещеным, – где-то поблизости были скальные православные церкви, но, по словам Валента, к ним было слишком опасно добираться: тем более с младенцем.
С каким-то суеверным упрямством Феодора искала в своих свитках упоминание о символе, который носила на шее вместо креста, - хотя не верила в него так же, как не верила теперь и в крест; но ничего не нашла. Не успела – пришел срок.
Феодора не испугалась: она успела дойти до Магдалины и позвать ее на помощь, прежде чем подняться в спальню и лечь. Но прежде, чем вернулась Магдалина, вбежал муж – нетерпеливый, еще более счастливый и грозный, чем всегда.
Магдалину он до жены не допустил.
- Зачем нам эта монахиня? – спросил младший Аммоний, всегда с плохо скрываемым отвращением взиравший на глухое белое покрывало кормилицы. – Она только испортит нам ребенка! Мы прекрасно справимся вдвоем, как вдвоем его делали!
Он засмеялся и подмигнул Феодоре, которая сидела на кровати, держась за живот и часто дыша. Ей не хотелось ложиться, вспоминать о женской беспомощности: и Валент ее в этом поощрял.
Поймав взгляд мужа, московитка стала перечислять, что ей нужно для родов, - Валент ее прервал:
- Я все знаю!
Он склонился над ней и развязал тесемки ее штанов, потом сдернул их и распутал набедренную повязку. Затем вышел и надавал распоряжений слугам, приказав накипятить воды, принести нож и чистые простыни.
Потом вернулся и сел около жены, приобняв ее и поглаживая ее живот; теперь Феодору охватило сильное смущение, даже страх, желание прогнать его, но это было уже невозможно. Когда накатывали схватки, она сдерживалась – потому, что не желала показать слабости при этом горце! Но потом с изумлением поняла, что терпеть не так и трудно; и рядом с Валентом боль словно уменьшалась.
Иногда она вскрикивала, и Валент целовал ее, утирал пот с ее лба. Боль делалась сильнее – но это была бодрящая, творящая боль; и когда вернулись слуги, неся горячую воду и тряпки, Феодора почувствовала, что они едва не опоздали!
Она откинулась на постель и через несколько минут усилий с криком, сжав руку мужа, вытолкнула вопящего ребенка. Еще не увидев его, московитка мгновенно поняла, что это – сын; и поняла, что он будет черен, прекрасен собой и дик, как его отец.
Валент прежде роженицы схватил на руки красного сморщенного младенца, который оглушительно вопил, как ни один из ее детей, появившись на свет; горец высоко поднял его, крича, что у него родился сын.
Когда мальчика обмыли и положили на грудь матери, она увидела, что его голову покрывают черные, как смоль, волосы; он сучил ножками так, что пнул Феодору еще чувствительнее, чем уже пинал ее изнутри.
Она раскрыла ворот рубашки, и мальчик тут же жадно присосался к ее груди. Феодора вскинула глаза на мужа – она не знала, что думать обо всем этом! Случилось огромное событие: и она не знала, счастье это для нее или горе!
- Как мы назовем его? – спросила московитка Валента. Впрочем, могла бы и не спрашивать.
- Львом, конечно, - ответил муж, восторженно глядя на свою семью. – Он будет так же грозен, как мой старший брат!
Феодора прижала к себе младшего сына, который жадно причмокивал, шаря по ее груди ручками, так же беззастенчиво, как его отец, – и вдруг у нее сердце захолонуло от страха за старшего: своего Варда, отважного, прекрасного и разумного не по годам. Нет, он походил не на отца – хотя ум и чувствительность, конечно, взял у него: Вард напоминал другого человека, которого Феодора, наверное, никогда уже не увидит...
"Если он не падет, защищая Константинополь, если случится чудо и мы встретимся - мне нельзя будет даже заговорить с ним, Валент его убьет…"
И два ее мальчика будут враждовать так же, как враждуют эти двое мужчин, хотя они и сыновья одной матери! Валент и Леонард тоже родились от одной матери, которую скоро изнасилуют турки!
Муж сел рядом, обнимая их обоих, - теперь он был настоящий муж ей.
- Я хвалю тебя – и тобой горжусь, маленькая царевна! Ты очень хорошо потрудилась для меня!
Феодора опустила глаза, щеки запылали под взглядом Валента.
- Он заснул, - сказала она; маленький Лев только что отвалился от ее груди, сразу потяжелев в материнских руках. – Позови теперь Магдалину, пусть поможет его спеленать и уложить.
Валент нахмурился, это ему не понравилось, - но он встал без возражений и вышел. Скоро вернулся с кормилицей, которая улыбалась, складывая руки, умильно глядя на малыша.
Феодора улыбнулась в ответ, хотя у нее еще болело тело и ее клонило в сон, - за все годы, что итальянка была с ней, московитка так и не смогла полюбить эту женщину, свою преданную помощницу; и ей сейчас стало стыдно за себя.
Магдалина переменила простыни на постели и спеленала мальчика, который спал сейчас так же крепко, как жадно ел и сильно брыкался.
Не удержавшись, нянька поцеловала Льва и перекрестила: католическим крестом, который у нее получался при большом волнении, хотя она долгие годы была православной.
- Когда вы его окрестите? – спросила она, подняв глаза на хозяина.
Обычно эта крестьянка была тиха и не вмешивалась в господские дела; но когда доходило до веры, она становилась тверда как кремень и не боялась воспротивиться никому. Правда, и случаев таких до сих пор представлялось мало…
Валент долго смотрел на итальянку - ему очень хотелось выгнать ее, но он почему-то не решался.
Потом сказал:
- Иди! Мы с женой решим это без тебя!
Магдалина с достоинством поклонилась. Бросив взгляд на мальчика, который сопел под боком у спящей матери, он еще раз с осуждением взглянула на хозяина – и быстро вышла, прикрываясь от его взгляда концом своего неизменного белого платка.
Валент долго стоял, глядя на русскую жену и своего сына, лучшего из троих, - он сжимал кулаки и менялся в лице, как будто мучительно боролся сам с собою.
Потом сказал:
- Нет!
Он сел рядом с безмятежно спавшей роженицей и поцеловал ее, потом ребенка.
- Нет, - повторил он: и неизвестно, в чем клялся сам себе. Феодора не услышала слова мужа, но это было неважно. Все будет так, как он решил.
Через две недели после рождения сына, когда Феодора достаточно окрепла, чтобы помногу ходить и садиться с мужем за стол, Валент устроил большую охоту – праздник в честь такого события.
Загнали целого оленя и настреляли куропаток; Валент сам смотрел, как они жарятся на вертелах, и давал советы: когда поливать вином и какими травами начинять. Потом собрал в нижнем зале всех домашних, считая и воинов Феодоры, участвовавших в охоте.
Посадив жену рядом, счастливый хозяин обнимал ее за плечи и подкладывал ей лучшие куски; шутил, что его сын уже так могуч, что может истощить свою мать до срока. Феодора улыбалась и краснела, когда Валент целовал ее при всех.
Потом она встала и ушла, извинившись слабостью и тем, что сын ждет ее. Аспазия, робко обгладывавшая крылышко в стороне у огня, тут же поднялась и поспешила на помощь. Поддерживая госпожу, горничная увела ее наверх.
Валент проводил обеих взглядом гордого собственника. Потом хлопнул в ладоши и приказал налить всем еще вина…
Леонид и Теокл, сидевшие в другом конце стола, пили мало, мрачно поглядывая на хозяина. Впрочем, македонец давно знал, что они с трудом выносят его, - и это его не тревожило: пока здесь их хозяйка с детьми, эти два любовника никогда не поднимут против него оружие.
Охранители Феодоры досидели до тех пор, пока Валент не отпустил всех; он выпил много, но почти не опьянел. Поднявшись, он, тяжело ступая, взошел по лестнице следом за женой.
Словно только и дожидаясь этого, Теокл сделал знак Леониду. Кивнув, друг встал вместе с ним; они вышли из зала вдвоем.
Они покинули дом черным ходом и остановились под стеной. Было уже так темно, что они с трудом различали лица друг друга – только выделялись светлые волосы Теокла.
Он положил Леониду на плечо руку, которая подрагивала от волнения, - потом огляделся и прошептал:
- Нам всем нужно бежать отсюда…
- Нельзя! – быстро ответил Леонид. – Нас наверняка застрелят во второй раз, вместе с ней!
- Не сейчас, я понимаю, - сказал Теокл.
Он глубоко вздохнул. Потер лицо ладонями, словно умывался.
- Она любит его, потому что ей иначе нельзя, - тихо сказал воин. – Мы это стерпели, потому что и нам иначе было нельзя! Я даже начал думать, что госпоже с ним будет хорошо жить, - разве мало ее побросала судьба!
- А теперь что думаешь? – резко спросил Леонид; серые глаза посуровели.
- Теперь думаю, - прошептал Теокл, склонившись к другу, - что этот мерзавец может взять себе вторую жену…
Леонид так и вскинулся. Рука схватилась за меч и вытащила его до половины:
- Что ты говоришь?..
Теокл кивнул. Он ненавистно оглянулся на дом.
- Потому он и отказался окрестить ребенка, - сказал воин. – Этот шакал хочет, взяв в жены женщину, воспитанную, как гречанка, жить как поганый турок! Я нутром чую, пусть даже наша бедная госпожа еще не понимает!
Леонид затрясся.
- Я сейчас пойду и зарублю его!..
Теокл кинулся к нему и зажал рот.
- Остынь, безумец! Уймись!..
Леонид успокоился, продышался; Теокл обнял его за плечи, удерживая.
- Сейчас никак нельзя, чтобы он даже заподозрил, - прошептал его светловолосый филэ. Теокл быстро поцеловал друга в губы. – Мы погубим и себя, и ее! Но вскоре он вернется в Константинополь, и ее с собой возьмет; и вот тогда…
- Когда Город будет уже взят, - сказал Леонид, сжимая зубы.
- Да, - кивнул Теокл. – Тогда шакал сможет показать себя, и воспротивиться ему будет уже некому!
Леонид понурился.
- Наша бедная госпожа – такая храбрая и стойкая! Сам не знаю, как она держалась до сих пор; а если он так поступит с ней, это сведет ее с ума!
- Непременно поступит – помяни мое слово, - сказал Теокл.
Он похлопал Леонида по плечу.
- На нас вся надежда, филэ!
Они еще раз поцеловались, более страстно, обхватив друг друга за шею. Хотели вернуться - но задержались, словно смутившись.
- Наше дело другое, - сказал Теокл, выразив словами то, что не удавалось его молчаливому возлюбленному. – Ты знаешь, что так, как мы, друг друга любят и итальянцы! И это не унижение! Но для госпожи…
Леонид вскинул руку.
- Мы этого не допустим!
И товарищи вернулись в дом.
Феодора скоро поняла, что похититель не стесняет ее, - стеснял лишь настолько, насколько это требовалось для узницы, которую без него стерегли и горы, и воины совершенно чужих племен и обычаев, обладавшие всеми человеческими навыками превосходных убийц и, вместе с этим, звериным чутьем; и крепче всех цепей ее держали дети, настоящие - и тот, который только ждал своего часа в ее утробе.
Быть может, ей следовало ненавидеть Валента до самого конца; но это было свыше человеческих - и уж точно свыше женских сил.
К тому же, новый муж очень кстати нашел ей развлечение, потребность в котором замучила ее: беда всех книжных людей. Ее разум, не получавший новой пищи, был как зверь, грызущий прутья клетки, - она могла свыкнуться с азиатскими штанами, по-македонски скакать на коне, оставшись русской холопкой с лица, - но внутри, стараниями Фомы и Феофано, давно и безвозвратно сделалась воспитанной гречанкой, с неуемной жаждой познания и расширения границ своей души.
Феодора занималась подаренными книгами одна – дом был достаточно просторен для уединения; и московитка начала, точно библиотекарь, не с чтения, а с разбора свитков. Ей хотелось разложить эти сочинения по порядку – считая от самых старых.
Она не умела определять возраст по ветхости кожи или бумаги, в чем наверняка поднаторели греческие ученые; и знала, что греческие письмена различаются, как различается до сих пор язык выходцев из бывших греческих царств, которые объединила под своею властью Византия. Этих различий она до сих пор не выучила: Феофано так и не успела ей объяснить. Но в разборе ей немало помогли имена государей, которые встречались в свитках, - ей попалось имя Комнинов, династии василевсов, которые правили в Буколеоне, и записи, делавшиеся собственноручно тем или иным императором, царевичем или царевной. Государственного значения эти записи не имели – но василевсы нередко были талантливыми сочинителями и умели живописать то, что видели вокруг, давать назидания потомкам или мудрую оценку исторических событий, которым были свидетелями. Другое дело – многие ли слушали их назидания; и кому, кроме них самих, были нужны эти оценки, столетиями пылившиеся в архивах? Наверняка даже придворные не читали сочинений своих императоров!
"Феофано правее их всех, - думала Феодора, - правее, хотя она великая грешница в глазах церкви и притом в ней нет ни капли царской крови! Но такие люди, как она, достойны зачинать новые династии!"
Встречались и сочинения философов, поэтов и писателей – по большей части копии работ римских и греческих сочинителей. Новая мысль в империи угасла давно. Из нового Феодоре встретились только работы императорских хронистов и историков: им, как византийским грекам, не нужно уже было силы творения, а только способность к наблюдению и оценке – способность, ценная в стариках, устранившихся от жизни!
Какой бодрящей была порою бесцеремонность Валента – который мог ворваться к ней в любую минуту и, схватив на руки, унести из ее кабинета навстречу солнцу, птицам и цветам; или в спальню – любить.
Потом Валент жадно расспрашивал жену о том, что нового она узнала: и ей поначалу было нечего ему ответить. Что нового может быть для человека, который мало знаком со старым? Что может сказать человеку, не знающему истории, имя философа или поэта, который уже две тысячи лет как мертв? Латинские вирши мало трогали Валента; но он с неожиданным увлечением слушал поэмы титана Гомера, которые Феодора частью знала наизусть, частью нашла в украденных мужем свитках: у многих сочинений не хватало половины или больше…
Но, казалось, подозревать ее и ревновать к этому делу Валент перестал. Снисходительно, как Фома, восхитившись способностями московитки, он целовал ее и покидал для своих мужских занятий, которые были совершенно ей чужды. Чтобы она, окончив чтение древних, смогла приняться за собственные сочинения.
Вначале Валент даже не знал, что жена пишет свое: если бы узнал, конечно, вмешался бы и выразил желание немедленно прочитать все, загубив ее новые мысли и слова на корню.
Но увидеть и выдать ее было некому – и она писала, куда более плодотворно, чем усталые василевсы Буколеона.
Ей ничего не было за попытку бежать – хотя Валент, несомненно, обо всем догадался; и спустил ей это так же, как оставил ей кинжал. Несомненно, ее это возбуждало – как и его; и не давало задремать ее уму, как и телу!
К июлю пошел восьмой месяц ее срока – она стала уставать больше обычного и отворачиваться от Валента, который, впрочем, тоже теперь осторожничал; но чувствовала себя здоровее, чем когда-либо с Фомой, вынашивая его детей. Македонец давал ей свою силу, бьющую через край, - ему было не жалко, в отличие от патрикия!
- Ты вся цветешь, - говорил он ей; и щипал то за зарумянившуюся щеку, то за живот, то за ягодицу, восхищаясь ею целиком; это был восторг сына природы, которому еще не втолковали в церкви, что в человеке есть скверность. Усевшись на каменную скамью перед домом, Валент вертел ее и оглаживал своими большими ладонями, поставив между колен.
- У нас будет сын, я уверен, - повторял он – так часто, точно она могла забыть, что носит его ребенка.
Феодора пряла козью шерсть, ткала и вязала, готовя приданое плоду их странной краденой любви: кто бы это ни был.
Она знала, что рожать придется без помощи врача или повитухи – Валент не мог никому сказать, а Феодора не доверяла никому из селений в предгорьях; но у нее оставалась Магдалина, которой случалось помогать в родах. И, к ее изумлению, в таком опыте признался и Валент. Без всякого смущения или отвращения, которые охватили бы католика или мусульманина, вовлеченного в столь непристойное, самое женское дело.
Валент Аммоний признался, что дважды принимал роды у своей первой жены – принял обоих своих сыновей. Как вышло, что не нашлось повитухи; или, может, он не допустил – этого македонец не сказал.
Раньше он говорил, что помогал в родах своим кобылам, - но ведь лошадь это совсем не то, что женщина! Лучше женщина или хуже – зависело, конечно, от веры и обычаев; но смущение перед женой испытывали все мужчины…
Валент заявил, что, как первым двоим, будет помогать рождаться и третьему своему сыну: повторил, что будет сын, с такой горделиво-мрачной уверенностью, что Феодора не посмела возразить, как во все предыдущие разы.
"Фома не вынес бы, если бы увидел мои роды. Или навсегда отвернулся бы от меня после такого зрелища", - подумала Феодора: и невольное восхищение, благодарность к этому насильнику охватили ее.
Ей подумалось, что ребенок останется некрещеным, – где-то поблизости были скальные православные церкви, но, по словам Валента, к ним было слишком опасно добираться: тем более с младенцем.
С каким-то суеверным упрямством Феодора искала в своих свитках упоминание о символе, который носила на шее вместо креста, - хотя не верила в него так же, как не верила теперь и в крест; но ничего не нашла. Не успела – пришел срок.
Феодора не испугалась: она успела дойти до Магдалины и позвать ее на помощь, прежде чем подняться в спальню и лечь. Но прежде, чем вернулась Магдалина, вбежал муж – нетерпеливый, еще более счастливый и грозный, чем всегда.
Магдалину он до жены не допустил.
- Зачем нам эта монахиня? – спросил младший Аммоний, всегда с плохо скрываемым отвращением взиравший на глухое белое покрывало кормилицы. – Она только испортит нам ребенка! Мы прекрасно справимся вдвоем, как вдвоем его делали!
Он засмеялся и подмигнул Феодоре, которая сидела на кровати, держась за живот и часто дыша. Ей не хотелось ложиться, вспоминать о женской беспомощности: и Валент ее в этом поощрял.
Поймав взгляд мужа, московитка стала перечислять, что ей нужно для родов, - Валент ее прервал:
- Я все знаю!
Он склонился над ней и развязал тесемки ее штанов, потом сдернул их и распутал набедренную повязку. Затем вышел и надавал распоряжений слугам, приказав накипятить воды, принести нож и чистые простыни.
Потом вернулся и сел около жены, приобняв ее и поглаживая ее живот; теперь Феодору охватило сильное смущение, даже страх, желание прогнать его, но это было уже невозможно. Когда накатывали схватки, она сдерживалась – потому, что не желала показать слабости при этом горце! Но потом с изумлением поняла, что терпеть не так и трудно; и рядом с Валентом боль словно уменьшалась.
Иногда она вскрикивала, и Валент целовал ее, утирал пот с ее лба. Боль делалась сильнее – но это была бодрящая, творящая боль; и когда вернулись слуги, неся горячую воду и тряпки, Феодора почувствовала, что они едва не опоздали!
Она откинулась на постель и через несколько минут усилий с криком, сжав руку мужа, вытолкнула вопящего ребенка. Еще не увидев его, московитка мгновенно поняла, что это – сын; и поняла, что он будет черен, прекрасен собой и дик, как его отец.
Валент прежде роженицы схватил на руки красного сморщенного младенца, который оглушительно вопил, как ни один из ее детей, появившись на свет; горец высоко поднял его, крича, что у него родился сын.
Когда мальчика обмыли и положили на грудь матери, она увидела, что его голову покрывают черные, как смоль, волосы; он сучил ножками так, что пнул Феодору еще чувствительнее, чем уже пинал ее изнутри.
Она раскрыла ворот рубашки, и мальчик тут же жадно присосался к ее груди. Феодора вскинула глаза на мужа – она не знала, что думать обо всем этом! Случилось огромное событие: и она не знала, счастье это для нее или горе!
- Как мы назовем его? – спросила московитка Валента. Впрочем, могла бы и не спрашивать.
- Львом, конечно, - ответил муж, восторженно глядя на свою семью. – Он будет так же грозен, как мой старший брат!
Феодора прижала к себе младшего сына, который жадно причмокивал, шаря по ее груди ручками, так же беззастенчиво, как его отец, – и вдруг у нее сердце захолонуло от страха за старшего: своего Варда, отважного, прекрасного и разумного не по годам. Нет, он походил не на отца – хотя ум и чувствительность, конечно, взял у него: Вард напоминал другого человека, которого Феодора, наверное, никогда уже не увидит...
"Если он не падет, защищая Константинополь, если случится чудо и мы встретимся - мне нельзя будет даже заговорить с ним, Валент его убьет…"
И два ее мальчика будут враждовать так же, как враждуют эти двое мужчин, хотя они и сыновья одной матери! Валент и Леонард тоже родились от одной матери, которую скоро изнасилуют турки!
Муж сел рядом, обнимая их обоих, - теперь он был настоящий муж ей.
- Я хвалю тебя – и тобой горжусь, маленькая царевна! Ты очень хорошо потрудилась для меня!
Феодора опустила глаза, щеки запылали под взглядом Валента.
- Он заснул, - сказала она; маленький Лев только что отвалился от ее груди, сразу потяжелев в материнских руках. – Позови теперь Магдалину, пусть поможет его спеленать и уложить.
Валент нахмурился, это ему не понравилось, - но он встал без возражений и вышел. Скоро вернулся с кормилицей, которая улыбалась, складывая руки, умильно глядя на малыша.
Феодора улыбнулась в ответ, хотя у нее еще болело тело и ее клонило в сон, - за все годы, что итальянка была с ней, московитка так и не смогла полюбить эту женщину, свою преданную помощницу; и ей сейчас стало стыдно за себя.
Магдалина переменила простыни на постели и спеленала мальчика, который спал сейчас так же крепко, как жадно ел и сильно брыкался.
Не удержавшись, нянька поцеловала Льва и перекрестила: католическим крестом, который у нее получался при большом волнении, хотя она долгие годы была православной.
- Когда вы его окрестите? – спросила она, подняв глаза на хозяина.
Обычно эта крестьянка была тиха и не вмешивалась в господские дела; но когда доходило до веры, она становилась тверда как кремень и не боялась воспротивиться никому. Правда, и случаев таких до сих пор представлялось мало…
Валент долго смотрел на итальянку - ему очень хотелось выгнать ее, но он почему-то не решался.
Потом сказал:
- Иди! Мы с женой решим это без тебя!
Магдалина с достоинством поклонилась. Бросив взгляд на мальчика, который сопел под боком у спящей матери, он еще раз с осуждением взглянула на хозяина – и быстро вышла, прикрываясь от его взгляда концом своего неизменного белого платка.
Валент долго стоял, глядя на русскую жену и своего сына, лучшего из троих, - он сжимал кулаки и менялся в лице, как будто мучительно боролся сам с собою.
Потом сказал:
- Нет!
Он сел рядом с безмятежно спавшей роженицей и поцеловал ее, потом ребенка.
- Нет, - повторил он: и неизвестно, в чем клялся сам себе. Феодора не услышала слова мужа, но это было неважно. Все будет так, как он решил.
Через две недели после рождения сына, когда Феодора достаточно окрепла, чтобы помногу ходить и садиться с мужем за стол, Валент устроил большую охоту – праздник в честь такого события.
Загнали целого оленя и настреляли куропаток; Валент сам смотрел, как они жарятся на вертелах, и давал советы: когда поливать вином и какими травами начинять. Потом собрал в нижнем зале всех домашних, считая и воинов Феодоры, участвовавших в охоте.
Посадив жену рядом, счастливый хозяин обнимал ее за плечи и подкладывал ей лучшие куски; шутил, что его сын уже так могуч, что может истощить свою мать до срока. Феодора улыбалась и краснела, когда Валент целовал ее при всех.
Потом она встала и ушла, извинившись слабостью и тем, что сын ждет ее. Аспазия, робко обгладывавшая крылышко в стороне у огня, тут же поднялась и поспешила на помощь. Поддерживая госпожу, горничная увела ее наверх.
Валент проводил обеих взглядом гордого собственника. Потом хлопнул в ладоши и приказал налить всем еще вина…
Леонид и Теокл, сидевшие в другом конце стола, пили мало, мрачно поглядывая на хозяина. Впрочем, македонец давно знал, что они с трудом выносят его, - и это его не тревожило: пока здесь их хозяйка с детьми, эти два любовника никогда не поднимут против него оружие.
Охранители Феодоры досидели до тех пор, пока Валент не отпустил всех; он выпил много, но почти не опьянел. Поднявшись, он, тяжело ступая, взошел по лестнице следом за женой.
Словно только и дожидаясь этого, Теокл сделал знак Леониду. Кивнув, друг встал вместе с ним; они вышли из зала вдвоем.
Они покинули дом черным ходом и остановились под стеной. Было уже так темно, что они с трудом различали лица друг друга – только выделялись светлые волосы Теокла.
Он положил Леониду на плечо руку, которая подрагивала от волнения, - потом огляделся и прошептал:
- Нам всем нужно бежать отсюда…
- Нельзя! – быстро ответил Леонид. – Нас наверняка застрелят во второй раз, вместе с ней!
- Не сейчас, я понимаю, - сказал Теокл.
Он глубоко вздохнул. Потер лицо ладонями, словно умывался.
- Она любит его, потому что ей иначе нельзя, - тихо сказал воин. – Мы это стерпели, потому что и нам иначе было нельзя! Я даже начал думать, что госпоже с ним будет хорошо жить, - разве мало ее побросала судьба!
- А теперь что думаешь? – резко спросил Леонид; серые глаза посуровели.
- Теперь думаю, - прошептал Теокл, склонившись к другу, - что этот мерзавец может взять себе вторую жену…
Леонид так и вскинулся. Рука схватилась за меч и вытащила его до половины:
- Что ты говоришь?..
Теокл кивнул. Он ненавистно оглянулся на дом.
- Потому он и отказался окрестить ребенка, - сказал воин. – Этот шакал хочет, взяв в жены женщину, воспитанную, как гречанка, жить как поганый турок! Я нутром чую, пусть даже наша бедная госпожа еще не понимает!
Леонид затрясся.
- Я сейчас пойду и зарублю его!..
Теокл кинулся к нему и зажал рот.
- Остынь, безумец! Уймись!..
Леонид успокоился, продышался; Теокл обнял его за плечи, удерживая.
- Сейчас никак нельзя, чтобы он даже заподозрил, - прошептал его светловолосый филэ. Теокл быстро поцеловал друга в губы. – Мы погубим и себя, и ее! Но вскоре он вернется в Константинополь, и ее с собой возьмет; и вот тогда…
- Когда Город будет уже взят, - сказал Леонид, сжимая зубы.
- Да, - кивнул Теокл. – Тогда шакал сможет показать себя, и воспротивиться ему будет уже некому!
Леонид понурился.
- Наша бедная госпожа – такая храбрая и стойкая! Сам не знаю, как она держалась до сих пор; а если он так поступит с ней, это сведет ее с ума!
- Непременно поступит – помяни мое слово, - сказал Теокл.
Он похлопал Леонида по плечу.
- На нас вся надежда, филэ!
Они еще раз поцеловались, более страстно, обхватив друг друга за шею. Хотели вернуться - но задержались, словно смутившись.
- Наше дело другое, - сказал Теокл, выразив словами то, что не удавалось его молчаливому возлюбленному. – Ты знаешь, что так, как мы, друг друга любят и итальянцы! И это не унижение! Но для госпожи…
Леонид вскинул руку.
- Мы этого не допустим!
И товарищи вернулись в дом.
Re: Ставрос
Глава 87
Аспазия никогда не была храброй.
Но она была девушкой, воспитанной в греческой вере, - и никогда не готовилась ни телом, ни мыслью к тому, чтобы ублажать мужчину, как учили юных турчанок. А новый хозяин пугал ее так, что когда он входил к госпоже, Аспазия старалась спрятаться подальше – подальше от того, что Валент Аммоний делал с ее хозяйкой! Горничная едва дышала, едва думала, когда господин глядел на нее вместо госпожи; и хотя не могла не заметить, как он красив и чарует Феодору, мало поддавалась его чарам сама – нарождающееся девическое влечение перебивал и душил ужас.
После того, как хозяйка родила, они с хозяином больше не спали вместе; но Аспазия продолжала ночевать далеко от них. И ужас ее перед брачной постелью Валента Аммония не уменьшался.
И когда в одну из таких ночей она услышала за дверью тяжелые мужские шаги, горничная села в постели и закричала. Она была слишком труслива, чтобы думать, что вредит этим себе: и уже поняв, что к ней вошел господин, продолжала кричать, не переставая, точно ее резали. Единственное, чем она могла защититься!
Аспазия откинулась к самой стене и прикрылась с головой старым одеялом; и когда могучая рука Валента попыталась сдернуть это одеяло, оказалось, что слабые пальцы Аспазии вцепились в него намертво – она не пускала его!
- Я не хочу! – пронзительно вскрикнула она, сжимаясь в комочек. – Не надо! Господи, пусть он уйдет!..
- Чертовка! – рявкнул Валент, в котором не осталось – да и не было никакой нежности к этой служанке; он дернул рыжую прядь, торчавшую из-под одеяла. Аспазия завопила снова, отбиваясь от него, как от ночного наваждения.
Несколько мгновений в комнате было тихо – слышно было только тяжелое дыхание обоих; Валент обернулся в сторону коридора. Девчонка так орала, что мужчины, несомненно, услышали!
Ему послышался дальний топот ног – потом топот остановился. Воины поняли, кто кричал и почему; и знали, кто здесь хозяин!
Аспазия вдруг выставила голову из-под одеяла – очень растрепанную и очень рыжую. Она смотрела на Валента – бледное лицо было залито слезами, рот исказился в беззвучном плаче. Теперь уже она не смела кричать.
- Не надо, - тонким голосом сказала Аспазия, поднимая тонкую руку и выставляя ее перед собой. – Я прошу, хозяин! Будет очень плохо!
И Валент попятился от горничной жены – что-то вроде страха мелькнуло на его лице. Он никогда не был трусом, но, как всякий грек, был суеверен! А как человек, лишившийся веры, – сделался суеверен еще более, чем другие!
- Чертовка, - пробормотал македонец. Он остановился на пороге, все еще изумленно глядя на девушку, - Валент был почти уверен, что она не поднимет шума и никак не выдаст своей боли и страха, когда он захочет взять ее: он знал, повидав жизнь, что так на ее месте сделали бы очень многие девицы, сберегая свою честь! И как она не понимает, что принадлежит ему вся, телом и жалкой душонкой, подобно своей хозяйке, - они обе его военная добыча! Нет, эта служанка не может не понимать! Тогда какой бес в нее вселился?..
Валент снова шагнул вперед; девица вскрикнула, вздрогнула, и он остановился. Если он схватит ее, она может опять завопить: слишком боится и слишком глупа, чтобы думать головой!
- Ты пожалеешь, девчонка, - мрачно пообещал Валент Аммоний и ушел. Его тяжелые шаги удалились по коридору.
Аспазия откинулась на стену, закрыв глаза, и затряслась в плаче: она плакала тихо, но неудержимо, обильно, замочив свою рубашку и одеяло. Она все еще не могла поверить, что хозяин ей не привиделся: что он и вправду напал…
Все, что случилось с нею и с хозяйкой до этой ночи, было ужасно, очень плохо – но злоключения русской хозяйки были для Аспазии как страшная сказка! На нее саму еще никто не покушался, ее только оберегали, госпожа и ее мужчины! Хозяйка страдала гораздо больше!
- И как только госпожа Феодора может с ним жить, с этим зверем, - прошептала Аспазия, дрожа. – Господи! Она ведь счастлива с ним, не притворяется, я вижу! Какая же она храбрая!
Аспазия не могла больше заснуть, даже подумать о сне. Она сползла с кровати – в душе рыжей горничной пробудилось то, что дремало до тех пор, пока похититель не покусился на нее.
- Я пойду все расскажу госпоже…
Она перекрестилась – босиком прошла несколько шагов до двери и остановилась. Сжала тонкие руки и помотала головой.
- Нет, как можно! Она ведь всего полтора месяца как родила, можно ли ее пугать! – прошептала Аспазия, борясь с собою. - Госпожа Феодора любит его – а я ей такое скажу… Ей будет плохо, как мне, и никому это не поможет: Валент здесь полный хозяин!
Девушка прошлась по комнате, каменный пол холодил ей ступни, а щебенка, рассыпанная по полу, колола; она почти не чувствовала этого. Аспазия неподвижно смотрела перед собой, как Феодора в минуты размышлений, приставив палец к подбородку: теперь от нее, и ни от кого другого, зависело, как дальше пойдет вся их жизнь! Она никогда не думала, что займет такое важное место и ей предстоит решать такие важные вещи!
Аспазия вернулась к кровати и села, поджав под себя испачканные ноги. Рот ее был приоткрыт, большие голубые глаза по-прежнему невидяще смотрели перед собой.
- Но если я не скажу, - прошептала горничная, - это может повториться! И я не знаю, смогу ли я… тогда… Боже мой, он ведь хочет жить с нами обеими! – вдруг ахнула Аспазия. – Как турок!
Она прижала руки к щекам и покачала головой. Потом перекрестилась.
- Пойду к госпоже завтра: я ей часто нужна, и никто ничего не подумает, - наконец решила Аспазия.
Она кивнула сама себе, потом даже смогла улыбнуться. Перестать страдать и начать действовать – перестать вести себя по-женски и начать по-мужски: это на самом деле помогало побеждать страх, госпожа Феодора и госпожа Феофано только так и держались до сих пор!
Аспазия легла в постель и накрылась одеялом с головой. Она замерла – но не заснула; думала. Потом быстро села и, схватив край своей простыни, принялась ее рвать. Простыня была ветхая, но льняная и потому крепкая: однако Аспазия, прикусив губу, своими слабыми руками оторвала одну длинную полосу, затем еще.
Из этих тряпок она скрутила себе набедренную повязку и крепко стянула концы узлом на талии. И только тогда смогла лечь и почти успокоиться.
Аспазия, как и многие греческие жены и девицы, надевала повязку под юбку только тогда, когда была нечистота: но теперь станет носить все время.
- А если смогу, сошью себе и штаны, хотя это и не по-христиански, - пробормотала девушка.
Она повернулась к маленькому окну, которое крестом загораживали железные прутья: Аспазия улыбнулась, глядя в свое окно. Потом закрыла глаза и крепко заснула, подложив ладонь под щеку.
На другое утро Аспазия застала госпожу одну – московитка была спокойна и весела. Она щекотала животик младшему сыну, сыну от Валента Аммония, - а мальчик заливался хохотом. Он был уже так похож на отца!
И вдруг Аспазия поняла, что не сможет ничего сказать: мало того, что она сама мучается, она еще и госпоже, и всем ее детям причинит такое зло! Что они могут поделать?
Феодора подняла на нее темно-карие глаза – госпожа была здорова и румяна, и очень хороша. Аспазия улыбнулась, восхищаясь таким спокойствием и обещая себе не нарушать его.
Потом госпожа вдруг помрачнела, глядя на горничную, - и Аспазия быстро отвела глаза.
Московитка встала, прижимая к себе ребенка, и резко спросила:
- Что произошло, Аспазия?
- Ничего! – тут же сказала служанка.
Феодора положила ребенка на постель и приблизилась к ней. Обойдя девушку, она остановилась напротив и приказала:
- Посмотри мне в глаза!
Аспазия робко подняла голову. Она переминалась с ноги на ногу, ее бросало то в жар, то в холод; и к горлу подкатывали рыдания, как она ни старалась сдерживать себя. Нет, ей было далеко до стойкости хозяйки!
- Тебя кто-то обидел? – спросила Феодора: уже грозно, как будто она могла помочь. Аспазия потрясла головой.
Феодора не поверила, конечно, - Аспазия совсем не умела лгать: и если уж попалась на малом, выдаст себя с головой…
- Валент? – прошептала московитка, отступая.
Аспазия качнула было головой – а потом вдруг кивнула и расплакалась. Она опустилась на колени, закрыв лицо руками: слезы капали между пальцев. Она предала всех, всех – и всем будет очень скверно, только потому, что Аспазия не умела стерпеть!...
- Я так и знала, - вдруг сказала хозяйка: она отступила от Аспазии и села на постель.
Аспазия посмотрела на госпожу сквозь пальцы, потом отняла руки от лица. Госпожа Феодора была совсем спокойна – только руки сжимали и терзали одеяло; она глядела в сторону.
- Он ведь не спит со мной, - сказала московитка. Девице было непристойно такое слушать, но Аспазия встала с колен и подошла к хозяйке, чтобы та могла продолжить. Феодора обняла ее за талию, и они прижались друг к другу.
- Все-таки он не смог тебя взять силой, как и меня, - продолжила Феодора, взглянув девушке в лицо. И, как ни удивительно, они даже смогли улыбнуться друг другу.
- А откуда ты знаешь, госпожа… - начала Аспазия и замолчала, прикусив губу. Феодора мрачно усмехнулась.
- Думаешь, я, родив троих детей, не поняла бы, что ты ранена – и где? Я знаю, как ходила бы девушка, которую обесчестили! А ты, бедняжка, так хрупка, что и вовсе не смогла бы показаться мне на глаза - даже до моей комнаты не дошла бы! Я вижу, что с тобой все хорошо!
Аспазия опять расплакалась; Феодора прижала ее к себе и поцеловала, как будто ей самой ничуть не было страшно.
- Он может вернуться, - прошептала Аспазия угасшим голосом. Феодора покачала головой.
- Едва ли… Я давно знаю – знай и ты, что многие мужчины, когда хотят новую женщину, забывают и о долге, и о чести! Даже благородные! А мы наделены меньшей страстью, чем мужи, именно затем, чтобы беречь честь семьи и мужскую честь! И мужчины, если не совсем низко пали, чувствуют это, и их это останавливает…
Она вдруг нахмурилась.
- Мне приснилось, что кто-то кричал! Это было взаправду – ты кричала?
- Да, - ответила горничная. – Я закричала, и он ушел!
Феодора улыбнулась ей и сжала ее руку.
- Ты прекрасно сделала… Ты очень храбрая! Он больше не вернется к тебе!
- Он назвал меня ведьмой, - всхлипнула Аспазия, перекинув через плечо свои рыжие волосы и накрутив на руку: показывая госпоже. – Может, Валент думал, что я его сглажу?
Феодора сосредоточенно кивнула.
- Вот пусть и дальше так думает.
Она помолчала и прибавила:
- Ты здесь единственная девушка… единственная женщина, которая никому не принадлежит! Но Валент на самом деле не хочет сражений в своей спальне, ему хватает битв за стенами дома! Моему мужу нужно, видишь, - тут она вздохнула, - женщину, которая будет во всем слушаться его на ложе и ублажать, как это умеют у османов. Он когда-то любил меня, и нам было хорошо! Но это только потому, что и я влюбилась в него! Я никого никогда не ублажала как наложница!
И правда – даже когда Желань Браздовна была рабыней Фомы, это патрикий на самом деле добивался ее любви, а не наоборот!
- И Валенту нужно не одну, - прибавила Феодора с усмешкой, - а много таких женщин, разных! Как ему, должно быть, жаль порой, что он не мусульманин! Но ведь он не обреет свою голову, не откажется от вина и не станет молиться по пять раз в день: ему бы и чтобы волки сыты, и чтобы овцы целы!
- Не будет такого, - с неожиданной свирепостью сказала горничная.
- Ты заговорила как амазонка! В нашем полку прибыло! – воскликнула Феодора.
Они посмотрели друг другу в глаза и расхохотались – до слез, схватившись за руки; потом крепко обнялись.
- Ты будешь спать в моей комнате, - вдруг сказала хозяйка.
- Я не могу! – ахнула Аспазия. – Ведь если хозяин захочет… Он твой муж…
- Верно, он мой муж и может хотеть, - кивнула Феодора. – Вот пусть тогда и прикажет тебе уйти. Но не думаю, что он так сделает. Ты будешь защищать меня, а я тебя…
Аспазия кивнула, со сверкающими глазами. Она никогда не ожидала от себя, что так расхрабрится.
Феодора усмехнулась.
- На самом деле я даже не сержусь на него, - произнесла она. – Я успела узнать этого македонца, лучше, чем он сам думает! Теперь я понимаю Феофано гораздо лучше прежнего!
Тут расхныкался на кровати сын – а потом раскричался, требуя к себе мать. Феодора бросилась к нему и схватила на руки, целуя. Лев успокоился, крепко сжав в кулачке прядь ее волос; он потянул волосы в рот, и мать отняла их.
- Видишь? – улыбаясь, Феодора показала горничной на малыша. – Он такой же мужчина, как его отец! Но пока он покорен мне, и еще долго будет меня слушаться!
Аспазия вздохнула: ее бледное личико вытянулось.
- Валент ведь все равно добьется чего хотел, - прошептала она. – У него будут другие женщины, госпожа! И тебя он опять добьется!
Феодора встряхнула головой.
- Пока я одна у него, пусть приходит – это не страшно, - сказала она. – А до того времени, как он сможет взять себе новых… много воды утечет! Султан еще не превратил Святую Софию в мечеть!
Потом она задумалась, подперев щеку рукой.
- Мне его жалко, милая Аспазия, - неожиданно произнесла московитка. – Он ведь так хорош, и так храбр, и так упорен! Он умеет любить женщин, пусть даже только как турок или язычник: очень много мужчин и этого не умеют!
Она сложила руки на коленях, щелкнула суставами.
- Но он хочет жить на две веры… а вернее сказать, все веры хочет подчинить своей страсти: а так уже нельзя. Даже в языческие времена было нельзя! Мойры измеряли путь каждого мужчины, и каждый умирал в свой срок, с каким бы богом ни пытался сравняться…
- Если человек сравняется с богом и над ним больше не будет закона, он станет очень несчастен, - вдруг серьезно сказала Аспазия. – Высший бог всегда должен быть!
Феодора усмехнулась.
- Не бойся, Аспазия, высший бог неистребим! И чем больше Валент с ним борется, тем сильнее он становится!
Помолчала и прибавила очень серьезно:
- Господи, помилуй раба Валента.
Валент долго не приходил к своей жене, и Аспазия, которая стала спать в комнате хозяйки, тоже не видала его: а потом московитка нашла своего мужа пьяным в общем зале. Он напился из-за нее, как когда-то напивался патрикий Нотарас!
Феодора растормошила македонца и, подняв его, увела в постель: постелив ему в другой комнате. Он не возражал.
Потом, когда муж проспался, Феодора пришла его проведать, принеся рассолу, - Валент выпил все быстро и, казалось, благодарно… Потом удержал жену своей сильной рукой. Она не противилась.
Ей и в этот раз, как во все прошлые разы - до покушения на Аспазию, до рождения сына - было хорошо с ним: несмотря ни на что, Валент Аммоний оставался мужчиной, заслуживавшим этого имени. И тело, и душа Феодоры помнили его любовь.
Потом он надолго удержал жену рядом с собой – смотрел ей в лицо, гладил ее волосы и щеки; хотел объясниться с ней – и не мог. И Феодора понимала все, что сейчас Валент хотел сказать ей: принимать под свою защиту многих женщин – древнейший обычай, и для турок, пожалуй, мудрый! Особенно теперь, когда столько мужчин гибнет в войнах! Но они-то были не турки: и никогда ими не станут!
Она никогда такой не станет – раньше умрет…
Валент отпустил жену и отвернулся от нее со вздохом. Он так ничего и не сказал.
Феодора молча встала и ушла: по ее лицу текли слезы.
На другой день Валент опять напился.
А потом собрался и уехал в Константинополь, не простившись ни с кем из домашних.
Аспазия никогда не была храброй.
Но она была девушкой, воспитанной в греческой вере, - и никогда не готовилась ни телом, ни мыслью к тому, чтобы ублажать мужчину, как учили юных турчанок. А новый хозяин пугал ее так, что когда он входил к госпоже, Аспазия старалась спрятаться подальше – подальше от того, что Валент Аммоний делал с ее хозяйкой! Горничная едва дышала, едва думала, когда господин глядел на нее вместо госпожи; и хотя не могла не заметить, как он красив и чарует Феодору, мало поддавалась его чарам сама – нарождающееся девическое влечение перебивал и душил ужас.
После того, как хозяйка родила, они с хозяином больше не спали вместе; но Аспазия продолжала ночевать далеко от них. И ужас ее перед брачной постелью Валента Аммония не уменьшался.
И когда в одну из таких ночей она услышала за дверью тяжелые мужские шаги, горничная села в постели и закричала. Она была слишком труслива, чтобы думать, что вредит этим себе: и уже поняв, что к ней вошел господин, продолжала кричать, не переставая, точно ее резали. Единственное, чем она могла защититься!
Аспазия откинулась к самой стене и прикрылась с головой старым одеялом; и когда могучая рука Валента попыталась сдернуть это одеяло, оказалось, что слабые пальцы Аспазии вцепились в него намертво – она не пускала его!
- Я не хочу! – пронзительно вскрикнула она, сжимаясь в комочек. – Не надо! Господи, пусть он уйдет!..
- Чертовка! – рявкнул Валент, в котором не осталось – да и не было никакой нежности к этой служанке; он дернул рыжую прядь, торчавшую из-под одеяла. Аспазия завопила снова, отбиваясь от него, как от ночного наваждения.
Несколько мгновений в комнате было тихо – слышно было только тяжелое дыхание обоих; Валент обернулся в сторону коридора. Девчонка так орала, что мужчины, несомненно, услышали!
Ему послышался дальний топот ног – потом топот остановился. Воины поняли, кто кричал и почему; и знали, кто здесь хозяин!
Аспазия вдруг выставила голову из-под одеяла – очень растрепанную и очень рыжую. Она смотрела на Валента – бледное лицо было залито слезами, рот исказился в беззвучном плаче. Теперь уже она не смела кричать.
- Не надо, - тонким голосом сказала Аспазия, поднимая тонкую руку и выставляя ее перед собой. – Я прошу, хозяин! Будет очень плохо!
И Валент попятился от горничной жены – что-то вроде страха мелькнуло на его лице. Он никогда не был трусом, но, как всякий грек, был суеверен! А как человек, лишившийся веры, – сделался суеверен еще более, чем другие!
- Чертовка, - пробормотал македонец. Он остановился на пороге, все еще изумленно глядя на девушку, - Валент был почти уверен, что она не поднимет шума и никак не выдаст своей боли и страха, когда он захочет взять ее: он знал, повидав жизнь, что так на ее месте сделали бы очень многие девицы, сберегая свою честь! И как она не понимает, что принадлежит ему вся, телом и жалкой душонкой, подобно своей хозяйке, - они обе его военная добыча! Нет, эта служанка не может не понимать! Тогда какой бес в нее вселился?..
Валент снова шагнул вперед; девица вскрикнула, вздрогнула, и он остановился. Если он схватит ее, она может опять завопить: слишком боится и слишком глупа, чтобы думать головой!
- Ты пожалеешь, девчонка, - мрачно пообещал Валент Аммоний и ушел. Его тяжелые шаги удалились по коридору.
Аспазия откинулась на стену, закрыв глаза, и затряслась в плаче: она плакала тихо, но неудержимо, обильно, замочив свою рубашку и одеяло. Она все еще не могла поверить, что хозяин ей не привиделся: что он и вправду напал…
Все, что случилось с нею и с хозяйкой до этой ночи, было ужасно, очень плохо – но злоключения русской хозяйки были для Аспазии как страшная сказка! На нее саму еще никто не покушался, ее только оберегали, госпожа и ее мужчины! Хозяйка страдала гораздо больше!
- И как только госпожа Феодора может с ним жить, с этим зверем, - прошептала Аспазия, дрожа. – Господи! Она ведь счастлива с ним, не притворяется, я вижу! Какая же она храбрая!
Аспазия не могла больше заснуть, даже подумать о сне. Она сползла с кровати – в душе рыжей горничной пробудилось то, что дремало до тех пор, пока похититель не покусился на нее.
- Я пойду все расскажу госпоже…
Она перекрестилась – босиком прошла несколько шагов до двери и остановилась. Сжала тонкие руки и помотала головой.
- Нет, как можно! Она ведь всего полтора месяца как родила, можно ли ее пугать! – прошептала Аспазия, борясь с собою. - Госпожа Феодора любит его – а я ей такое скажу… Ей будет плохо, как мне, и никому это не поможет: Валент здесь полный хозяин!
Девушка прошлась по комнате, каменный пол холодил ей ступни, а щебенка, рассыпанная по полу, колола; она почти не чувствовала этого. Аспазия неподвижно смотрела перед собой, как Феодора в минуты размышлений, приставив палец к подбородку: теперь от нее, и ни от кого другого, зависело, как дальше пойдет вся их жизнь! Она никогда не думала, что займет такое важное место и ей предстоит решать такие важные вещи!
Аспазия вернулась к кровати и села, поджав под себя испачканные ноги. Рот ее был приоткрыт, большие голубые глаза по-прежнему невидяще смотрели перед собой.
- Но если я не скажу, - прошептала горничная, - это может повториться! И я не знаю, смогу ли я… тогда… Боже мой, он ведь хочет жить с нами обеими! – вдруг ахнула Аспазия. – Как турок!
Она прижала руки к щекам и покачала головой. Потом перекрестилась.
- Пойду к госпоже завтра: я ей часто нужна, и никто ничего не подумает, - наконец решила Аспазия.
Она кивнула сама себе, потом даже смогла улыбнуться. Перестать страдать и начать действовать – перестать вести себя по-женски и начать по-мужски: это на самом деле помогало побеждать страх, госпожа Феодора и госпожа Феофано только так и держались до сих пор!
Аспазия легла в постель и накрылась одеялом с головой. Она замерла – но не заснула; думала. Потом быстро села и, схватив край своей простыни, принялась ее рвать. Простыня была ветхая, но льняная и потому крепкая: однако Аспазия, прикусив губу, своими слабыми руками оторвала одну длинную полосу, затем еще.
Из этих тряпок она скрутила себе набедренную повязку и крепко стянула концы узлом на талии. И только тогда смогла лечь и почти успокоиться.
Аспазия, как и многие греческие жены и девицы, надевала повязку под юбку только тогда, когда была нечистота: но теперь станет носить все время.
- А если смогу, сошью себе и штаны, хотя это и не по-христиански, - пробормотала девушка.
Она повернулась к маленькому окну, которое крестом загораживали железные прутья: Аспазия улыбнулась, глядя в свое окно. Потом закрыла глаза и крепко заснула, подложив ладонь под щеку.
На другое утро Аспазия застала госпожу одну – московитка была спокойна и весела. Она щекотала животик младшему сыну, сыну от Валента Аммония, - а мальчик заливался хохотом. Он был уже так похож на отца!
И вдруг Аспазия поняла, что не сможет ничего сказать: мало того, что она сама мучается, она еще и госпоже, и всем ее детям причинит такое зло! Что они могут поделать?
Феодора подняла на нее темно-карие глаза – госпожа была здорова и румяна, и очень хороша. Аспазия улыбнулась, восхищаясь таким спокойствием и обещая себе не нарушать его.
Потом госпожа вдруг помрачнела, глядя на горничную, - и Аспазия быстро отвела глаза.
Московитка встала, прижимая к себе ребенка, и резко спросила:
- Что произошло, Аспазия?
- Ничего! – тут же сказала служанка.
Феодора положила ребенка на постель и приблизилась к ней. Обойдя девушку, она остановилась напротив и приказала:
- Посмотри мне в глаза!
Аспазия робко подняла голову. Она переминалась с ноги на ногу, ее бросало то в жар, то в холод; и к горлу подкатывали рыдания, как она ни старалась сдерживать себя. Нет, ей было далеко до стойкости хозяйки!
- Тебя кто-то обидел? – спросила Феодора: уже грозно, как будто она могла помочь. Аспазия потрясла головой.
Феодора не поверила, конечно, - Аспазия совсем не умела лгать: и если уж попалась на малом, выдаст себя с головой…
- Валент? – прошептала московитка, отступая.
Аспазия качнула было головой – а потом вдруг кивнула и расплакалась. Она опустилась на колени, закрыв лицо руками: слезы капали между пальцев. Она предала всех, всех – и всем будет очень скверно, только потому, что Аспазия не умела стерпеть!...
- Я так и знала, - вдруг сказала хозяйка: она отступила от Аспазии и села на постель.
Аспазия посмотрела на госпожу сквозь пальцы, потом отняла руки от лица. Госпожа Феодора была совсем спокойна – только руки сжимали и терзали одеяло; она глядела в сторону.
- Он ведь не спит со мной, - сказала московитка. Девице было непристойно такое слушать, но Аспазия встала с колен и подошла к хозяйке, чтобы та могла продолжить. Феодора обняла ее за талию, и они прижались друг к другу.
- Все-таки он не смог тебя взять силой, как и меня, - продолжила Феодора, взглянув девушке в лицо. И, как ни удивительно, они даже смогли улыбнуться друг другу.
- А откуда ты знаешь, госпожа… - начала Аспазия и замолчала, прикусив губу. Феодора мрачно усмехнулась.
- Думаешь, я, родив троих детей, не поняла бы, что ты ранена – и где? Я знаю, как ходила бы девушка, которую обесчестили! А ты, бедняжка, так хрупка, что и вовсе не смогла бы показаться мне на глаза - даже до моей комнаты не дошла бы! Я вижу, что с тобой все хорошо!
Аспазия опять расплакалась; Феодора прижала ее к себе и поцеловала, как будто ей самой ничуть не было страшно.
- Он может вернуться, - прошептала Аспазия угасшим голосом. Феодора покачала головой.
- Едва ли… Я давно знаю – знай и ты, что многие мужчины, когда хотят новую женщину, забывают и о долге, и о чести! Даже благородные! А мы наделены меньшей страстью, чем мужи, именно затем, чтобы беречь честь семьи и мужскую честь! И мужчины, если не совсем низко пали, чувствуют это, и их это останавливает…
Она вдруг нахмурилась.
- Мне приснилось, что кто-то кричал! Это было взаправду – ты кричала?
- Да, - ответила горничная. – Я закричала, и он ушел!
Феодора улыбнулась ей и сжала ее руку.
- Ты прекрасно сделала… Ты очень храбрая! Он больше не вернется к тебе!
- Он назвал меня ведьмой, - всхлипнула Аспазия, перекинув через плечо свои рыжие волосы и накрутив на руку: показывая госпоже. – Может, Валент думал, что я его сглажу?
Феодора сосредоточенно кивнула.
- Вот пусть и дальше так думает.
Она помолчала и прибавила:
- Ты здесь единственная девушка… единственная женщина, которая никому не принадлежит! Но Валент на самом деле не хочет сражений в своей спальне, ему хватает битв за стенами дома! Моему мужу нужно, видишь, - тут она вздохнула, - женщину, которая будет во всем слушаться его на ложе и ублажать, как это умеют у османов. Он когда-то любил меня, и нам было хорошо! Но это только потому, что и я влюбилась в него! Я никого никогда не ублажала как наложница!
И правда – даже когда Желань Браздовна была рабыней Фомы, это патрикий на самом деле добивался ее любви, а не наоборот!
- И Валенту нужно не одну, - прибавила Феодора с усмешкой, - а много таких женщин, разных! Как ему, должно быть, жаль порой, что он не мусульманин! Но ведь он не обреет свою голову, не откажется от вина и не станет молиться по пять раз в день: ему бы и чтобы волки сыты, и чтобы овцы целы!
- Не будет такого, - с неожиданной свирепостью сказала горничная.
- Ты заговорила как амазонка! В нашем полку прибыло! – воскликнула Феодора.
Они посмотрели друг другу в глаза и расхохотались – до слез, схватившись за руки; потом крепко обнялись.
- Ты будешь спать в моей комнате, - вдруг сказала хозяйка.
- Я не могу! – ахнула Аспазия. – Ведь если хозяин захочет… Он твой муж…
- Верно, он мой муж и может хотеть, - кивнула Феодора. – Вот пусть тогда и прикажет тебе уйти. Но не думаю, что он так сделает. Ты будешь защищать меня, а я тебя…
Аспазия кивнула, со сверкающими глазами. Она никогда не ожидала от себя, что так расхрабрится.
Феодора усмехнулась.
- На самом деле я даже не сержусь на него, - произнесла она. – Я успела узнать этого македонца, лучше, чем он сам думает! Теперь я понимаю Феофано гораздо лучше прежнего!
Тут расхныкался на кровати сын – а потом раскричался, требуя к себе мать. Феодора бросилась к нему и схватила на руки, целуя. Лев успокоился, крепко сжав в кулачке прядь ее волос; он потянул волосы в рот, и мать отняла их.
- Видишь? – улыбаясь, Феодора показала горничной на малыша. – Он такой же мужчина, как его отец! Но пока он покорен мне, и еще долго будет меня слушаться!
Аспазия вздохнула: ее бледное личико вытянулось.
- Валент ведь все равно добьется чего хотел, - прошептала она. – У него будут другие женщины, госпожа! И тебя он опять добьется!
Феодора встряхнула головой.
- Пока я одна у него, пусть приходит – это не страшно, - сказала она. – А до того времени, как он сможет взять себе новых… много воды утечет! Султан еще не превратил Святую Софию в мечеть!
Потом она задумалась, подперев щеку рукой.
- Мне его жалко, милая Аспазия, - неожиданно произнесла московитка. – Он ведь так хорош, и так храбр, и так упорен! Он умеет любить женщин, пусть даже только как турок или язычник: очень много мужчин и этого не умеют!
Она сложила руки на коленях, щелкнула суставами.
- Но он хочет жить на две веры… а вернее сказать, все веры хочет подчинить своей страсти: а так уже нельзя. Даже в языческие времена было нельзя! Мойры измеряли путь каждого мужчины, и каждый умирал в свой срок, с каким бы богом ни пытался сравняться…
- Если человек сравняется с богом и над ним больше не будет закона, он станет очень несчастен, - вдруг серьезно сказала Аспазия. – Высший бог всегда должен быть!
Феодора усмехнулась.
- Не бойся, Аспазия, высший бог неистребим! И чем больше Валент с ним борется, тем сильнее он становится!
Помолчала и прибавила очень серьезно:
- Господи, помилуй раба Валента.
Валент долго не приходил к своей жене, и Аспазия, которая стала спать в комнате хозяйки, тоже не видала его: а потом московитка нашла своего мужа пьяным в общем зале. Он напился из-за нее, как когда-то напивался патрикий Нотарас!
Феодора растормошила македонца и, подняв его, увела в постель: постелив ему в другой комнате. Он не возражал.
Потом, когда муж проспался, Феодора пришла его проведать, принеся рассолу, - Валент выпил все быстро и, казалось, благодарно… Потом удержал жену своей сильной рукой. Она не противилась.
Ей и в этот раз, как во все прошлые разы - до покушения на Аспазию, до рождения сына - было хорошо с ним: несмотря ни на что, Валент Аммоний оставался мужчиной, заслуживавшим этого имени. И тело, и душа Феодоры помнили его любовь.
Потом он надолго удержал жену рядом с собой – смотрел ей в лицо, гладил ее волосы и щеки; хотел объясниться с ней – и не мог. И Феодора понимала все, что сейчас Валент хотел сказать ей: принимать под свою защиту многих женщин – древнейший обычай, и для турок, пожалуй, мудрый! Особенно теперь, когда столько мужчин гибнет в войнах! Но они-то были не турки: и никогда ими не станут!
Она никогда такой не станет – раньше умрет…
Валент отпустил жену и отвернулся от нее со вздохом. Он так ничего и не сказал.
Феодора молча встала и ушла: по ее лицу текли слезы.
На другой день Валент опять напился.
А потом собрался и уехал в Константинополь, не простившись ни с кем из домашних.
Re: Ставрос
Глава 88
"Княгиня Ольга получила в крещении имя Елены – как я удивилась, когда узнала это! Недаром Валент сравнивал меня с Ольгой, а Феофано – с Еленой. Господи, знаки провидения повсюду – нужно только открыть глаза, и увидишь их. Хотя это очень страшно.
Я теперь не любомудрием занимаюсь, как это любят греки, - а веду дневник, подобно римлянам в походах. Мне есть что рассказать – иной полководец столько во всю жизнь не увидит, сколько довелось мне!
Хотела бы я сейчас узнать: есть ли что-нибудь новое в европейской мысли - или люди запада так и остались там, где застала их церковь, заморозившая мысль в полете на века? Может быть, это мы ошибаемся, не зная ученых Европы, - смеясь над ними из-за моря?
Но мне думается, что нет. Им дай бы бог догнать римлян и греков и отмыться от своей грязи – и только тогда можно говорить о новом, о будущем! Где бы мы были, если бы не церковь, к этому времени?
Где угодно – но не здесь. И неизвестно, к лучшему или к худшему.
Мне кажется, что невежество и всевластие церкви на Западе сослужили такую же службу, как леность мысли и пристрастие к плотским утехам на Востоке: эти силы помешали человечеству развиться слишком скоро и истребить себя. Каждый, кто прыгает выше головы, истребляет себя! Каждый, кто прежде времени пытается уподобиться богу. Чтобы вернуться в рай, нужно пахать и рожать еще гораздо больше.
Затем мы и были изгнаны – учиться; и пока еще можем только получать розги!
Валента нет уже третью неделю – опять. Я не знаю, как долго добираться отсюда до Города, он мне не говорил, и мои тоже не знают; может быть, Валент в пути, а может, уже и погиб. Мне будет очень больно, если так, - я уже плачу! Я полюбила этого злодея; и, кажется, никогда не разлюблю.
Женщина в супружестве почти всегда любит – как иначе она сможет отдаваться? Но Валент этого стоил.
Я говорю о нем так, точно мой муж уже мертвец. Господи, спаси.
Хотя бы мои дети здоровы – уже за это можно бесконечно Бога славить. Вард, мой царевич, просто золото. Он видит, когда тяжело приходится его матери, когда страшно сестре. Вард даже пытался играть с моей дочкой, чтобы ее развлечь, - хотя ему самому только четвертый год!
Но им уже не по пути – моя малышка уже испытала женскую долю: Анастасия сидит со мной и маленьким братом в комнатах, пока Вард резвится снаружи. Теокл вырезает детям игрушки – я и знать не знала, что он такой мастер! – но его куклами и лошадками играет одна моя дочка, а Вард предпочитает живые и опасные забавы. Однажды, когда я сидела с младшеньким на скамье у дома, Вард поймал за хвост змею, приняв ее за ящерицу! Мальчик тут же выронил ее, и она уползла в траву. Сама не знаю, как гадюка не укусила его, а я не умерла тогда от страха! А он почти не испугался.
Вард сам делает себе игрушки, которые сам же и ломает, наигравшись всласть; и мастерит новые. В нем уже бурлит мужская страсть: страсть к творению и разрушению.
Но он не убийца. Я ни разу не видела, чтобы Вард попытался подбить камнем птицу, хотя, наверное, смог бы – я видела, как сильно и метко он кидает камешки в цель.
Не знаю, благословил ли Бог хоть одну мать лучшим сыном, чем мой. Если я потеряю Варда, мне этого не пережить!
Мой Лев пока не показал себя – хотя Вард сам приходил посмотреть на брата и спросить о нем, зная, что матери это понравится. Мой младший пока только ест, спит и набирает силу. Он крепок и спокоен – никогда еще не хныкал от нездоровья; но когда моему Льву нужно что-нибудь, а ему долго не подают, он кричит так, что лопаются уши, пока не получит.
Он слишком еще мал, чтобы воспитывать его, - но, чует мое сердце, что, как и его отца, Льва придется вынуждать болью, угрозами и чудесами смирять свои страсти: потому что он тоже всегда будет чувствовать себя правым, пока силен. Что ж, нет на земле такой силы, против которой не нашлось бы другой силы!
Чему я больше всего радуюсь теперь – так это тому, что Вард никогда не назовет Валента отцом. Он уже достаточно разумен для этого. Я рассказала сыну, что нам пришлось уехать от отца, - и мой сокол понял и поверил! Я спросила, каким он помнит отца, - и Вард сказал: у него волосы как солнце.
Что ж, Фома Нотарас заслуживает того, чтобы этот прекрасный мальчик вспоминал его как своего родителя: точно Аполлона, о котором можно только грезить, но не приблизиться.
Вард был почти не ранен этим расставанием, потому что отец почти не занимался им; думаю, что Фома тоже не слишком страдает по нем, а если и мучается, то только своей виной, а не любовью.
А что же моя царица?
Только сейчас я понимаю, что писала все это словно послание ей – послание, которого она не получит. Феофано всегда стоит у меня за плечом, незримо обнимает меня, когда я разговариваю и размышляю наедине с собой. Мы с нею теснее всего сплетались мыслью, а не телами, - это самое сокровенное, что может быть между людьми".
Феодора подняла глаза и огляделась, как будто могла увидеть что-нибудь новое. Она сидела на том самом камне, из щели в котором выползла змея, едва не ужалившая ее любимого сына. Сидела в одиночестве: без Валента никто не препятствовал ей в ее нуждах и прихотях, точно московитка была действительно женой этому горцу и госпожой его хозяйства. Если бы так!
Феодора поплотнее обернула голову и шею платком, в который куталась от ветра. В низинах в это время было еще тепло – но здесь ей, особенно в первые месяцы после родов, опасно было застудиться.
Московитка хмурила лоб, темные брови сходились в переносье, темные глаза горели. Она в своем платке, с косой через плечо, напоминала истовую богомолицу – но стоило перевести взгляд на ее ноги в неизменных сейчас теплых штанах под юбкой, как впечатление развеивалось.
Она покусала перо и, окунув его в чернильницу, пристроенную рядом в углублении на камне, опять склонилась над своим листом.
"Я сейчас пишу только затем, чтобы сохранить рассудок. Не описать, как мне тревожно за всех! И боюсь, не придется ли отдать младшего сына?
Конечно, я буду бороться за него; но борьба окажется слишком неравная. Нечего надеяться, что Валент оставит Льва мне: мы с младшим сыном останемся вместе, только если я войду в гарем этого человека без всяких понятий о добродетели, что божеских, что турецких. Валент слишком македонец, чтобы бояться небесных громов! Или, по крайней мере, - он до смерти будет вести себя так, точно ничего не боится: сколько бы душ этим ни погубил.
Не буду лукавить перед собой – порою мне даже хочется, чтобы Валент забрал себе Льва, как вознаграждение за гибель брата. Им и лучше всего быть вместе, так они похожи! А нам Лев принесет только горе, я чувствую это!
Теперь кончаю. Господи, помилуй Леонарда, который сейчас там, в Константинополе, с моим мужем…"
И вдруг Феодора ахнула и выронила перо, которое тут же исчезло в траве. Она встала, под ногой что-то хрупнуло: не то сучок, не то ее перо; она даже не заметила.
Феодора только в эту минуту поняла, что ничего на самом деле не слышала о том, где сейчас Леонард, - а давно уже думает о комесе так, точно он в Городе, с императором! Леонард Флатанелос тоже мог давным-давно погибнуть – а она так уверенно причислила его к защитникам Константинополя!
- Леонард жив, - прошептала Феодора, улыбаясь; ее сердце пело в груди. – Он жив, я это знаю! И он совсем не так далеко!
Она захлопала в ладоши и засмеялась. Потом закружилась на месте, отплясывая какой-то дикий танец, танцевать который позволяли только штаны. А если Константинополь устоит – ей опять придется забыть о штанах…
Нет – не устоит!
"И я могу сейчас носить все, что хочу, - это время, когда позволено все, время, когда из обычаев разных народов выхватываются и присваиваются лучшие… сохраняются только лучшие!"
Феодора свернула свои записки и, взяв под мышку, пошла домой к маленькому Льву, не то смеясь, не то плача. При мысли о том, что Леонард может быть рядом, может помнить о ней, ей хотелось сотворить какое-нибудь безумство: начать швыряться камнями, как Вард, или… бежать отсюда…
Феодора остановилась: ей послышался шорох в кустах тамариска. Нет, не змея: кто-то большой и тяжелый!
Красно-бурые толстые ветви хрустнули, подаваясь в разные стороны, и навстречу ей явился Теокл. Он тяжело дышал; когда Феодора в изумлении откачнулась, выставил ладони, словно чтобы помешать ей бежать.
- Куда ты так спешишь? – воскликнула хозяйка. – Что-нибудь случилось?
Случилось! Не иначе!
Феодора ахнула и рванулась вперед; воин перехватил ее и удержал.
- Постой, госпожа! Все хорошо, я спешил только поговорить с тобой, пока нас никто не слушает!
- Как ты можешь это знать? – воскликнула Феодора.
Теокл быстро прижал палец к губам. Потом склонился к ней и прошептал:
- Мы знаем… мы тоже научились следить, как эти дикари! Мы сейчас можем сказать, когда их нет рядом! А ты приучила их к тому, что бродишь одна, - они и вовсе перестали смотреть в твою сторону! Это тоже люди!
Он рассмеялся. Феодора нечасто видела своего охранителя так близко – он, как и патрикий, будучи светловолосым и светлокожим, тоже казался моложе своего возраста: но сейчас Феодора ясно увидела, что лицо Теокла прочертили морщины, а длинные волосы пробила седина. Ему было далеко за тридцать лет. Но он был куда надежнее и мужественнее патрикия, хотя всегда предпочитал женщинам мужчин…
Теокл взял ее под руку и отвел под деревья – две сосны и густой тамариск с другой стороны как раз прикрыли их.
Феодора оперлась о ствол между ветвей, с удовольствием и тревогой ощущая, как обнажившиеся по локоть руки колет хвоя.
- Что ты хотел мне сказать?
Теокл стал прямо перед ней, уперевшись руками в дерево по обе стороны от нее. Его серые глаза поблескивали решимостью, которая даже испугала московитку.
- Нам нужно бежать отсюда, пока он не вернулся.
Феодора прикрыла глаза; несколько мгновений еще ощущала дыхание и жар тела своего охранителя, потом он отодвинулся.
Она опять посмотрела на него.
- Ты хочешь, чтобы нас всех перестреляли, как уже убивали тебя?..
- А ты хочешь ждать? – с неожиданной яростью воскликнул воин. – После того, что уже было?
Он ударил кулаком по стволу, и свежая колкая хвоя обсыпала их обоих.
- Когда он вернется, госпожа, - сказал Теокл, - он вернется врагом тебе: это несомненно. Ты отвергла его беззаконие, и теперь он будет только принуждать тебя, твоих детей и слуг.
Теокл сложил руки на груди и отвернулся – конечно, вспоминал ту ночь, когда кричала Аспазия. Он бы первым бросился спасать эту девушку, если бы не боялся прежде всего за госпожу…
- Ты все знаешь, - прошептала Феодора: ей стало и стыдно, и радостно, что этот чужой ее семье мужчина посвящен в ее семейные тайны.
- Как же не знать, - ответил Теокл. – Я вижу, что вы уже не помиритесь – если только он не сломит тебя…
Воин глубоко вздохнул. Гордость госпожи для него с некоторых пор значила больше, чем собственная, - и отстаивая эту чужеземку, он как будто он оборонял свою родину…
- Но как ты думаешь бежать? – шепотом спросила Феодора. – Это почти безнадежно! Мы ведь совсем не знаем дороги - как и не знаем, где нас стерегут…
- Знаем и то, и другое, - ответил грек.
Он улыбнулся.
- Ты думаешь, мы только тем и занимались эти месяцы, что вырезали игрушки твоим детям? За мной и Леонидом – множество глаз с тех пор; но так и лучше. Мы отвлекли внимание на себя. А за нас на разведку ходили Филипп и Максим – Филипп из дома Дионисия Аммония, и до сих пор никак не показывал своего недовольства… но он тоже македонец, и бывал в горах прежде. Он нашел, какими тропами можно спуститься… здесь совсем не так высоко! И можно укрыться от соглядатаев – они не орлы и над нами не взлетят! А дальше все пути открыты! Хоть на Константинополь!
Феодора задохнулась. Она прижала руки к груди.
- Это правда?
Теокл сиял радостью.
- Истинная правда. Только если у тебя хватит мужества.
Феодора отвернулась. Обломила сухую веточку и раскрошила в пальцах.
- Но ведь у меня его сын… Это будет бесчестно!
Теокл рассмеялся.
- А честно – отдать ребенка туркам? Этот пес пусть себе пропадает, он сам пошел своей дорогой; а детей…
Феодора прервала его:
- Но здесь его дочери и другой сын, Мардоний! Предлагаешь бросить их?
- Предлагаю, - напрямик ответил воин. – И настаиваю. Всех нам не спасти, но если останемся здесь, погибнем вместе с ними. Если Валент вернется, он уже не отпустит тебя: он достаточно умен, чтобы принять меры предосторожности.
Улыбка четче обозначила морщины вокруг твердого рта.
- Грекам все последнее время приходится так выбирать!
Феодора молчала, кусая губы.
Теокл коснулся ее плеча:
- А может, ты хочешь выносить еще одного его ребенка? Поехать с ним в Город под сильной охраной, беременной, с маленькими детьми… рабыней каждого его слова?..
Феодора топнула ногой.
- Не бывать этому!
- Чтобы избегнуть такой судьбы, нужно рискнуть сейчас, - сказал светловолосый грек.
Феодора кивнула.
- Я подумаю.
Больше у нее ничего не получилось сказать – она только подалась к воину и обняла его. Теокл погладил госпожу по голове, потом отстранил – и, взглянув ей в глаза и поклонившись, быстро ушел.
"Княгиня Ольга получила в крещении имя Елены – как я удивилась, когда узнала это! Недаром Валент сравнивал меня с Ольгой, а Феофано – с Еленой. Господи, знаки провидения повсюду – нужно только открыть глаза, и увидишь их. Хотя это очень страшно.
Я теперь не любомудрием занимаюсь, как это любят греки, - а веду дневник, подобно римлянам в походах. Мне есть что рассказать – иной полководец столько во всю жизнь не увидит, сколько довелось мне!
Хотела бы я сейчас узнать: есть ли что-нибудь новое в европейской мысли - или люди запада так и остались там, где застала их церковь, заморозившая мысль в полете на века? Может быть, это мы ошибаемся, не зная ученых Европы, - смеясь над ними из-за моря?
Но мне думается, что нет. Им дай бы бог догнать римлян и греков и отмыться от своей грязи – и только тогда можно говорить о новом, о будущем! Где бы мы были, если бы не церковь, к этому времени?
Где угодно – но не здесь. И неизвестно, к лучшему или к худшему.
Мне кажется, что невежество и всевластие церкви на Западе сослужили такую же службу, как леность мысли и пристрастие к плотским утехам на Востоке: эти силы помешали человечеству развиться слишком скоро и истребить себя. Каждый, кто прыгает выше головы, истребляет себя! Каждый, кто прежде времени пытается уподобиться богу. Чтобы вернуться в рай, нужно пахать и рожать еще гораздо больше.
Затем мы и были изгнаны – учиться; и пока еще можем только получать розги!
Валента нет уже третью неделю – опять. Я не знаю, как долго добираться отсюда до Города, он мне не говорил, и мои тоже не знают; может быть, Валент в пути, а может, уже и погиб. Мне будет очень больно, если так, - я уже плачу! Я полюбила этого злодея; и, кажется, никогда не разлюблю.
Женщина в супружестве почти всегда любит – как иначе она сможет отдаваться? Но Валент этого стоил.
Я говорю о нем так, точно мой муж уже мертвец. Господи, спаси.
Хотя бы мои дети здоровы – уже за это можно бесконечно Бога славить. Вард, мой царевич, просто золото. Он видит, когда тяжело приходится его матери, когда страшно сестре. Вард даже пытался играть с моей дочкой, чтобы ее развлечь, - хотя ему самому только четвертый год!
Но им уже не по пути – моя малышка уже испытала женскую долю: Анастасия сидит со мной и маленьким братом в комнатах, пока Вард резвится снаружи. Теокл вырезает детям игрушки – я и знать не знала, что он такой мастер! – но его куклами и лошадками играет одна моя дочка, а Вард предпочитает живые и опасные забавы. Однажды, когда я сидела с младшеньким на скамье у дома, Вард поймал за хвост змею, приняв ее за ящерицу! Мальчик тут же выронил ее, и она уползла в траву. Сама не знаю, как гадюка не укусила его, а я не умерла тогда от страха! А он почти не испугался.
Вард сам делает себе игрушки, которые сам же и ломает, наигравшись всласть; и мастерит новые. В нем уже бурлит мужская страсть: страсть к творению и разрушению.
Но он не убийца. Я ни разу не видела, чтобы Вард попытался подбить камнем птицу, хотя, наверное, смог бы – я видела, как сильно и метко он кидает камешки в цель.
Не знаю, благословил ли Бог хоть одну мать лучшим сыном, чем мой. Если я потеряю Варда, мне этого не пережить!
Мой Лев пока не показал себя – хотя Вард сам приходил посмотреть на брата и спросить о нем, зная, что матери это понравится. Мой младший пока только ест, спит и набирает силу. Он крепок и спокоен – никогда еще не хныкал от нездоровья; но когда моему Льву нужно что-нибудь, а ему долго не подают, он кричит так, что лопаются уши, пока не получит.
Он слишком еще мал, чтобы воспитывать его, - но, чует мое сердце, что, как и его отца, Льва придется вынуждать болью, угрозами и чудесами смирять свои страсти: потому что он тоже всегда будет чувствовать себя правым, пока силен. Что ж, нет на земле такой силы, против которой не нашлось бы другой силы!
Чему я больше всего радуюсь теперь – так это тому, что Вард никогда не назовет Валента отцом. Он уже достаточно разумен для этого. Я рассказала сыну, что нам пришлось уехать от отца, - и мой сокол понял и поверил! Я спросила, каким он помнит отца, - и Вард сказал: у него волосы как солнце.
Что ж, Фома Нотарас заслуживает того, чтобы этот прекрасный мальчик вспоминал его как своего родителя: точно Аполлона, о котором можно только грезить, но не приблизиться.
Вард был почти не ранен этим расставанием, потому что отец почти не занимался им; думаю, что Фома тоже не слишком страдает по нем, а если и мучается, то только своей виной, а не любовью.
А что же моя царица?
Только сейчас я понимаю, что писала все это словно послание ей – послание, которого она не получит. Феофано всегда стоит у меня за плечом, незримо обнимает меня, когда я разговариваю и размышляю наедине с собой. Мы с нею теснее всего сплетались мыслью, а не телами, - это самое сокровенное, что может быть между людьми".
Феодора подняла глаза и огляделась, как будто могла увидеть что-нибудь новое. Она сидела на том самом камне, из щели в котором выползла змея, едва не ужалившая ее любимого сына. Сидела в одиночестве: без Валента никто не препятствовал ей в ее нуждах и прихотях, точно московитка была действительно женой этому горцу и госпожой его хозяйства. Если бы так!
Феодора поплотнее обернула голову и шею платком, в который куталась от ветра. В низинах в это время было еще тепло – но здесь ей, особенно в первые месяцы после родов, опасно было застудиться.
Московитка хмурила лоб, темные брови сходились в переносье, темные глаза горели. Она в своем платке, с косой через плечо, напоминала истовую богомолицу – но стоило перевести взгляд на ее ноги в неизменных сейчас теплых штанах под юбкой, как впечатление развеивалось.
Она покусала перо и, окунув его в чернильницу, пристроенную рядом в углублении на камне, опять склонилась над своим листом.
"Я сейчас пишу только затем, чтобы сохранить рассудок. Не описать, как мне тревожно за всех! И боюсь, не придется ли отдать младшего сына?
Конечно, я буду бороться за него; но борьба окажется слишком неравная. Нечего надеяться, что Валент оставит Льва мне: мы с младшим сыном останемся вместе, только если я войду в гарем этого человека без всяких понятий о добродетели, что божеских, что турецких. Валент слишком македонец, чтобы бояться небесных громов! Или, по крайней мере, - он до смерти будет вести себя так, точно ничего не боится: сколько бы душ этим ни погубил.
Не буду лукавить перед собой – порою мне даже хочется, чтобы Валент забрал себе Льва, как вознаграждение за гибель брата. Им и лучше всего быть вместе, так они похожи! А нам Лев принесет только горе, я чувствую это!
Теперь кончаю. Господи, помилуй Леонарда, который сейчас там, в Константинополе, с моим мужем…"
И вдруг Феодора ахнула и выронила перо, которое тут же исчезло в траве. Она встала, под ногой что-то хрупнуло: не то сучок, не то ее перо; она даже не заметила.
Феодора только в эту минуту поняла, что ничего на самом деле не слышала о том, где сейчас Леонард, - а давно уже думает о комесе так, точно он в Городе, с императором! Леонард Флатанелос тоже мог давным-давно погибнуть – а она так уверенно причислила его к защитникам Константинополя!
- Леонард жив, - прошептала Феодора, улыбаясь; ее сердце пело в груди. – Он жив, я это знаю! И он совсем не так далеко!
Она захлопала в ладоши и засмеялась. Потом закружилась на месте, отплясывая какой-то дикий танец, танцевать который позволяли только штаны. А если Константинополь устоит – ей опять придется забыть о штанах…
Нет – не устоит!
"И я могу сейчас носить все, что хочу, - это время, когда позволено все, время, когда из обычаев разных народов выхватываются и присваиваются лучшие… сохраняются только лучшие!"
Феодора свернула свои записки и, взяв под мышку, пошла домой к маленькому Льву, не то смеясь, не то плача. При мысли о том, что Леонард может быть рядом, может помнить о ней, ей хотелось сотворить какое-нибудь безумство: начать швыряться камнями, как Вард, или… бежать отсюда…
Феодора остановилась: ей послышался шорох в кустах тамариска. Нет, не змея: кто-то большой и тяжелый!
Красно-бурые толстые ветви хрустнули, подаваясь в разные стороны, и навстречу ей явился Теокл. Он тяжело дышал; когда Феодора в изумлении откачнулась, выставил ладони, словно чтобы помешать ей бежать.
- Куда ты так спешишь? – воскликнула хозяйка. – Что-нибудь случилось?
Случилось! Не иначе!
Феодора ахнула и рванулась вперед; воин перехватил ее и удержал.
- Постой, госпожа! Все хорошо, я спешил только поговорить с тобой, пока нас никто не слушает!
- Как ты можешь это знать? – воскликнула Феодора.
Теокл быстро прижал палец к губам. Потом склонился к ней и прошептал:
- Мы знаем… мы тоже научились следить, как эти дикари! Мы сейчас можем сказать, когда их нет рядом! А ты приучила их к тому, что бродишь одна, - они и вовсе перестали смотреть в твою сторону! Это тоже люди!
Он рассмеялся. Феодора нечасто видела своего охранителя так близко – он, как и патрикий, будучи светловолосым и светлокожим, тоже казался моложе своего возраста: но сейчас Феодора ясно увидела, что лицо Теокла прочертили морщины, а длинные волосы пробила седина. Ему было далеко за тридцать лет. Но он был куда надежнее и мужественнее патрикия, хотя всегда предпочитал женщинам мужчин…
Теокл взял ее под руку и отвел под деревья – две сосны и густой тамариск с другой стороны как раз прикрыли их.
Феодора оперлась о ствол между ветвей, с удовольствием и тревогой ощущая, как обнажившиеся по локоть руки колет хвоя.
- Что ты хотел мне сказать?
Теокл стал прямо перед ней, уперевшись руками в дерево по обе стороны от нее. Его серые глаза поблескивали решимостью, которая даже испугала московитку.
- Нам нужно бежать отсюда, пока он не вернулся.
Феодора прикрыла глаза; несколько мгновений еще ощущала дыхание и жар тела своего охранителя, потом он отодвинулся.
Она опять посмотрела на него.
- Ты хочешь, чтобы нас всех перестреляли, как уже убивали тебя?..
- А ты хочешь ждать? – с неожиданной яростью воскликнул воин. – После того, что уже было?
Он ударил кулаком по стволу, и свежая колкая хвоя обсыпала их обоих.
- Когда он вернется, госпожа, - сказал Теокл, - он вернется врагом тебе: это несомненно. Ты отвергла его беззаконие, и теперь он будет только принуждать тебя, твоих детей и слуг.
Теокл сложил руки на груди и отвернулся – конечно, вспоминал ту ночь, когда кричала Аспазия. Он бы первым бросился спасать эту девушку, если бы не боялся прежде всего за госпожу…
- Ты все знаешь, - прошептала Феодора: ей стало и стыдно, и радостно, что этот чужой ее семье мужчина посвящен в ее семейные тайны.
- Как же не знать, - ответил Теокл. – Я вижу, что вы уже не помиритесь – если только он не сломит тебя…
Воин глубоко вздохнул. Гордость госпожи для него с некоторых пор значила больше, чем собственная, - и отстаивая эту чужеземку, он как будто он оборонял свою родину…
- Но как ты думаешь бежать? – шепотом спросила Феодора. – Это почти безнадежно! Мы ведь совсем не знаем дороги - как и не знаем, где нас стерегут…
- Знаем и то, и другое, - ответил грек.
Он улыбнулся.
- Ты думаешь, мы только тем и занимались эти месяцы, что вырезали игрушки твоим детям? За мной и Леонидом – множество глаз с тех пор; но так и лучше. Мы отвлекли внимание на себя. А за нас на разведку ходили Филипп и Максим – Филипп из дома Дионисия Аммония, и до сих пор никак не показывал своего недовольства… но он тоже македонец, и бывал в горах прежде. Он нашел, какими тропами можно спуститься… здесь совсем не так высоко! И можно укрыться от соглядатаев – они не орлы и над нами не взлетят! А дальше все пути открыты! Хоть на Константинополь!
Феодора задохнулась. Она прижала руки к груди.
- Это правда?
Теокл сиял радостью.
- Истинная правда. Только если у тебя хватит мужества.
Феодора отвернулась. Обломила сухую веточку и раскрошила в пальцах.
- Но ведь у меня его сын… Это будет бесчестно!
Теокл рассмеялся.
- А честно – отдать ребенка туркам? Этот пес пусть себе пропадает, он сам пошел своей дорогой; а детей…
Феодора прервала его:
- Но здесь его дочери и другой сын, Мардоний! Предлагаешь бросить их?
- Предлагаю, - напрямик ответил воин. – И настаиваю. Всех нам не спасти, но если останемся здесь, погибнем вместе с ними. Если Валент вернется, он уже не отпустит тебя: он достаточно умен, чтобы принять меры предосторожности.
Улыбка четче обозначила морщины вокруг твердого рта.
- Грекам все последнее время приходится так выбирать!
Феодора молчала, кусая губы.
Теокл коснулся ее плеча:
- А может, ты хочешь выносить еще одного его ребенка? Поехать с ним в Город под сильной охраной, беременной, с маленькими детьми… рабыней каждого его слова?..
Феодора топнула ногой.
- Не бывать этому!
- Чтобы избегнуть такой судьбы, нужно рискнуть сейчас, - сказал светловолосый грек.
Феодора кивнула.
- Я подумаю.
Больше у нее ничего не получилось сказать – она только подалась к воину и обняла его. Теокл погладил госпожу по голове, потом отстранил – и, взглянув ей в глаза и поклонившись, быстро ушел.
Re: Ставрос
Глава 89
Феодора долго размышляла, ни с кем не советуясь. Главное ей предстояло решать одной за всех: как княгине.
Несколько дней она избегала своих воинов; пока ее на перехватил на прогулке Филипп, тот самый македонец, который ходил на разведку без всякого ее ведома. Феодора с ним почти не говорила до сих пор; а сейчас этот воин оттеснил ее под деревья, подобно Теоклу, и, стоя совсем близко, предупреждал:
- Скоро может выпасть снег, и тогда уйти будет намного труднее.
Снег Феодора видела и прошлой зимой, которую встретила здесь, - но его выпало совсем мало. Она удивилась:
- В чем же трудность?
Филипп развел руками, словно изумляясь такому женскому недомыслию. Но Феодора уже и сама поняла: следы. Конечно. И гораздо холоднее будет ночевать.
- Но ведь если пойдет снег, он собьет собак со следу, - сказала московитка.
Само собой, Валент держал здесь собак – как для охоты, так и… на такой вот случай.
Филипп покачал головой.
- Едва ли. Псы ведь натасканы выслеживать дичь круглый год. А вот людям придется труднее, и спрятаться среди снегов – тоже. Далеко будет заметно, даже ночью!
- Решай сейчас, - настаивал македонец; он сжал ее плечи, точно вразумлял товарища, а не уговаривал женщину; Феодора едва заметила – так напряженно думала.
- Мы бежим, - наконец сказала она.
Филипп улыбнулся, показав щербатые зубы: он был крепок как дуб, потрепанный бурями и устоявший.
- Очень хорошо, я передам нашим.
Он повернулся и ушел, а Феодора поняла – уже невозможно ничего перерешить. Как князю нельзя отозвать дружину, которую он бросил в бой: и впереди которой скачет сам…
Вечером того же дня в пустом темном коридоре хозяйка обговорила план побега с Теоклом.
Они покинут дом ночью – воины хорошо видели в темноте; возьмут лошадей на каждого мужчину и на госпожу: на тех, кто умеет держаться в седле. Больше лошадей им не свести; и лишние кони обременят их. Еду Теокл тоже обещал достать – мужчины намного лучше нее могли соразмерить общие нужды с длиною и трудностями пути. Женщинам оставалось позаботиться о себе и о детях.
Феодора спрашивала, как ей везти младенца Льва, - ведь его даже не усадить на коня!
- Привяжешь за спину, - невозмутимо ответил Теокл. – Крестьянки часто так таскают детей, когда им нужны руки!
- Но ведь он может закричать, - сказала госпожа: в ужасе от внезапной мысли, что маленький Лев может предать своих так же, как его отец.
Теокл отвел глаза, скрывая неприятный блеск, – ведь они говорили о сыне изменника!
- Придется заткнуть ему рот.
Феодора возмутилась на мгновение; но потом кивнула. Больше ничего не остается.
Побег назначили через сутки – чтобы не забыть ничего. Феодора первым делом увязала свои книги: она не могла иначе, хотя и понимала, что может погубить лишней поклажей себя и товарищей. Но бросить в горах сокровища Буколеона – муж сказал ей, где брал их, - было выше ее сил: тем более, что она одна из всех беглецов могла оценить их значение для истории!
Вечером накануне побега в ее спальню пришли обе служанки; Магдалина привела детей. Анастасия была бледненькой и дрожала; но крепилась, понимая, что они опять куда-то бегут и опять надо молчать. Брат обнимал ее за плечи, как взрослый.
Магдалина, когда у нее освободились руки, наклонилась и оправила штаны, надетые под монашеского покроя платье: такие же, как у Аспазии, которая хотела одеться совсем по-мужски – но хозяйка отсоветовала ей. С юбкой поверх шаровар будет теплее; а иначе можно застудить то, что женщине никак нельзя застужать!
Льва мать спеленала последним, завернув в вязанное из козьей шерсти одеяло.
- Надеюсь, не замерзнет, - сказала она.
Тут за дверью раздались мужские шаги, и к женщинам заглянул Филипп.
- Готовы?
Феодора кивнула.
Она взяла на руки сына, которого нужно было вздеть на спину, точно вещевой мешок; она не знала, как это сделать. Хотела уже попросить Магдалину о помощи; но тут македонец подошел к ним.
- Дай-ка мне, - сказал он, понимая намерение московитки.
Филипп посмотрел на нее.
- Давай платок.
- Зачем? – спросила мать. Она не сразу вспомнила об этой ужасной предосторожности. А Лев уже начинал похныкивать, кося на чужого мужчину черными восточными глазами.
Феодора наконец нашла и протянула Филиппу льняной платок; воин скомкал его и ловко затолкнул двумя пальцами в приоткрытый ротик ребенка. Лев кашлянул; Феодора невольно вскрикнула.
Но все было благополучно: сын не задыхался и не выплевывал платка. А македонец, как будто этого не хватило, еще и перевязал его рот снаружи большим шерстяным платком, в который Лев был закутан под одеялом.
- Ну вот, - удовлетворенно сказал Филипп Феодоре. – Теперь наклоняйся, я привяжу его тебе за спину.
Феодора послушно повернулась и наклонилась, уперев руки в колени; и позволила хватать себя и перевязывать, как младенца.
Потом Филипп приказал:
- Выходите - за мной, не отставать! Огня зажечь нельзя, так что смотрите в оба!
Феодора шла, пригибаясь под тяжестью, давившей на плечи, и думала, что если сын задохнется там, сзади, она может и не почувствовать.
Ей почему-то почти совсем не было страшно за исход их предприятия. Блаженное – всевидящее безумие матери!
Они вышли черным ходом – снаружи их ждали оставшиеся четверо воинов, удерживавшие лошадей. Вся их надежда!
Леонид подсадил на лошадь госпожу, потом помог остальным женщинам сесть за спины к Максиму и Теренцию; он сам и Теокл взяли детей. Филипп, единственный свободный, был проводником.
Они тронулись шагом – пока можно было ехать свободно, и еще долго будет можно; ущелья и кручи начнутся не сейчас. И преследователям окажется так же легко их догонять, как им – убегать…
Феодора почувствовала, как сильно стукнуло сердце: она пересекла незримую границу, которой никогда не переступала, гуляя около дома. Даже с Валентом, позволявшим ей, бывало, немного больше свободы. Но сейчас!..
- Собак мы долго подкармливали, - пробормотал Теокл хрипло. – Не думаю, что… Но ведь дикари могут привести новых, мы не уследим!
И тут позади раздался лай.
- Смелей! – крикнул Филипп, прежде чем все опомнились. – Впереди широкий ручей… След точно потеряется!
Он ударил по холке испуганно храпевшую лошадь Феодоры, и, пришпорив своего коня, вынесся вперед. Собачий лай приближался; но потом так же стал отдаляться. Донеслись человеческие голоса – чужие языки; и тоже смолкли. Неужели чутье подвело азиатов, и они уводили собак прочь?..
- Может, тоже вспомнили о ручье! Или решили собраться как следует, чтобы затравить нас при свете дня! – воскликнул Теокл.
- Мы свели почти всех лошадей, - ответил Леонид. – Но это их ненадолго задержит, они завтра же раздобудут других! У них ведь здесь не одно хозяйское логово – все горы, почитай, их! Чем они промышляли с…
- Не болтай! – прикрикнул Филипп на некстати разговорившегося товарища.
Они все-таки нашли и пересекли широкий, быстрый и холодный ручей, о котором говорил македонец: хотя это препятствие для врагов сейчас представлялось совсем не таким великим.
Они двигались вперед еще долго – и скоро пришлось спешиться; начались спуски, и стали попадаться теснины и тропы, которых лошадь не могла одолеть. Филиппу пришлось искать обходные пути, о которых он не думал прежде.
Остановились на отдых они перед рассветом; Филипп не только не радовался, а был близок к злому отчаянию.
- Не бросить ли здесь коней! Нас ведь завтра же сцапают, ползем, как черепахи! – говорил он. – Валент точно знает, где спускаться верхом; и эти узкоглазые знают!
- Без коней никак, - возразил Теокл: другой негласный предводитель. – На равнине все решит только скорость!
Феодора с помощью служанок отвязала и покормила сына, который после такого обращения долго капризничал и отказывался есть; но потом так впился губками в материнскую грудь, что причинил боль.
Феодора качала его, пока он не заснул, молясь об одном, об одном: только бы сын не закричал.
Лев заснул, и московитка позволила Аспазии накормить себя сухарями и напоить водой из баклаги; и тогда крепко заснула сама, укутав себя и ребенка в плащ. Рот его остался свободен.
Когда рассвело, госпожу разбудил Теокл.
- Корми ребенка, и поедем. Времени мало.
Когда закончили со Львом, которому опять заткнули и завязали рот, стало совсем светло.
"Мы не уйдем… Не уйдем", - молотом стучало в голове у Феодоры. Ей помогли сесть в седло, и она села, не ощущая ничего, кроме страха погони и обреченности. Они поехали вперед, часто останавливаясь и опять нащупывая путь.
- Если повезет… к вечеру мы будем внизу, - говорил Филипп; но словно бы с каждым часом все меньше в это верил. Малодушие? Или предчувствие, которое редко обманывает опытных воинов?
И когда солнце оказалось над головой, осияв все далеко окрест, случилось то, чего так боялась московитка.
Лев не терпел, когда ему отказывали в желаниях; и еще меньше мог вынести путешествие с заткнутым ртом. Он был сын своего отца! И когда Феодора ехала, в кои-то веки почти позабыв о том, кто у нее за спиной, Лев закричал. Он все-таки выплюнул кляп и выпутался из одеяла! И никто не видел, когда и как!
Крик Валентова сына, и дома неслабый, здесь был ужасен: эхо повторяло его снова и снова. Что-то громыхнуло над головами в ответ, словно горы наказывали непочтительных пришельцев.
- Обвал!.. – вырвалось у Филиппа. – Вот сученыш!
Феодора даже не рассердилась на такое имя, данное ее ребенку: стало уже некогда.
Точно крик младенца Льва был условным сигналом, над кручами, позади, справа и слева выставились головы – в повязках и гололобые, узкоглазые и широкоглазые, черные и рыжие, в турецкую масть. С азиатами были лошади – и злые псы, которые натягивали поводки, срываясь с лая на хриплый кашель. Может быть, их нарочно не кормили!
Лев, словно наконец довольный, замолчал.
Феодора увидела, как воины, залегшие над ними, нацеливают свои страшные луки и натягивают тетиву. Азиаты были высоко и далеко – долго спускались бы к ним со своими лошадьми; но стоит им расстрелять мужчин, и они возьмут женщин и детей голыми руками…
И тут, первым из всех, опомнился Теокл.
Женщина могла ложиться с другой женщиной; могла сражаться, даже убить свое дитя – но то, что сделал Теокл, мог сделать только мужчина! Феодора не успела даже ахнуть, как воин сорвал у нее со спины живой сверток, который опять завопил. Схватив ребенка за ножки, Теокл свирепо крикнул:
- Сейчас сброшу это отродье в пропасть! Только попробуй кто-нибудь выстрелить!..
Он попятился вместе с конем; Феодора сидела на своей Тессе как мертвая. Она в первый миг рванулась на крик сына, но Леонид, тотчас же понявший намерение своего филэ, вцепился ей в плечо. Теокл, как и Леонид, был фессалиец*; но сейчас Феодора видела перед собою спартанца, решавшего над обрывом, на скале Тайгета*, участь негодного младенца – жить ему или умереть.
Над головами беглецов опять залаяли собаки; азиаты пошевельнулись, прозвучало разноголосье – но тут же люди опять замолчали. Они видели, что Теокл совсем не шутит; и Феодора чувствовала всем существом, что ему и в самом деле хотелось выполнить свою угрозу, предав сына предателя спартанской смерти…
Беглецы, не сговариваясь, тронули лошадей; никто из врагов не двинулся. Даже если и не все они понимали по-гречески, угроза Теокла не нуждалась в словесном подкреплении.
Когда луки опустились, воин бросил младенца матери, почти с отвращением; Лев опять раскричался.
- Только попробуйте кто спустить собак! – пригрозил фессалиец врагам напоследок. Он утер пот со лба.
Даже такой нечеловеческий поступок задержал бы погоню ненадолго; и все понимали это. Но тут случилось другое.
Горы вокруг точно вздохнули, потом послышался шорох… мелкий стук… Азиаты закричали, оборачиваясь на кручи, вздымавшиеся над самыми головами.
В горах никогда нельзя кричать – это знали все взрослые люди; но младенец Лев не знал. И когда он нарушил это правило, сдерживаться стало уже бесполезно.
Вокруг беглецов все начало осыпаться, крошиться; кони врагов заржали, оскальзываясь, и завизжали свирепые псы, такие же бессильные против гнева гор, как и их хозяева. Звуки их маленьких смертей тонули в нарастающем грохоте.
Беглецы стояли – они стояли безопаснее всех, - схватившись друг за друга и за своих лошадей; кто успел, спешился, а растерявшиеся женщины только зажмурились, оставшись в седлах. Грохот не прекращался, прерываясь только на несколько обманчивых мгновений, - обваливалось то там, то здесь, увлекая в бездну не одну человеческую жизнь. Но когда все стихло, оказалось, что никто из отряда не пострадал.
Все в пыли и каменном крошеве, беглецы смотрели друг на друга, не в силах вымолвить ни слова.
Филипп огляделся – вокруг и над ними ничего не шевелилось. Если даже кто из врагов и остался жив, они встанут не сейчас – и крепко подумают, прежде чем продолжать погоню! Только те, кому нечего терять, отважатся ехать дальше.
- Едемте, - нарушил молчание Теокл. – Нельзя терять время!
Феодора крепко прижала к себе ребенка, который наконец замолчал, как и земля под ними.
- Он нас всех спас! Мой маленький Лев – наш спаситель!..
Она подумала, сколько человек только что уничтожил ее младенец, не ведая о том, - и содрогнулась. Еще не сознавая себя, он воевал по-азиатски, не считаясь ни с какими законами и не считая убитых!
- Даже дитя видит, где лежит правда, - прошептала мать, заглушая голос совести: правда бывала очень жестока.
- Дитя видит, а мужчины забывают, - отозвался Теокл; человек, который мог сбросить в пропасть ее сына, сейчас мрачно и удовлетворенно улыбался.
- Едемте дальше! – поторопил всех Филипп, далекий от благоговения перед судьбой. – Быстрее, а то все будет зря!
К вечеру они и в самом деле спустились с гор, и смогли остановиться: женщины были едва живы от усталости, и все – слишком потрясены, чтобы радоваться.
И никто не знал, куда держать путь, - даже Филипп.
Они поели и тут же устроились спать; мужчины стерегли по очереди. Несмотря ни на что, терять бдительность было нельзя.
Когда беглецы проснулись и поскакали дальше, благоразумно решив расспросить о том, где они находятся, в ближайшем селении, - то, проехав по солнцу совсем немного, увидели, что к ним приближается вооруженный отряд.
Мужчины схватились за оружие. Но этих воинов оказалось лишь в полтора раза больше, чем их самих; и вид у них был такой, точно они сами заблудились и нуждались в помощи.
- Кто вы такие? – воскликнул Филипп, до конца остававшийся вождем.
- А кто вы? – ответил по-гречески предводитель встречного отряда, с удивлением разглядывая их, будто оценивая – сойдут ли они за тех, кого он ищет.
Он заметил женщин и детей и прибавил уже с надеждой, с воодушевлением:
- Нам нужна госпожа Феодора Нотарас и ее дети, похищенные из дома…
Феодора быстро выехала вперед, не слушая никаких предостережений, которые раздались вокруг.
- Это я! – воскликнула она. – Кто прислал вас?
- Госпожа Кассандра, - ответил предводитель. – Кассандра Катаволинос!
Тут этот суровый, исхудалый воин совсем по-детски потер глаза кулаками. Он снова взглянул на Феодору, будто никак не мог поверить себе, - детская улыбка раздвинула пухлый рот, потерявшийся в щетине.
- Это и в самом деле ты, госпожа? Никто уже не верил, что мы найдем тебя, и мы ехали назад!
Феодора засмеялась и заплакала сразу.
- Ну вот, вы и нашли меня, - сказала она.
Теокл отвязал ребенка от ее спины и подал ей, и московитка высоко подняла его, показывая людям Кассандры.
* Фессалия (Тессалия) - историческая область в средней части Греции, у побережья Эгейского моря.
* Горный хребет в Спарте, на юге полуострова Пелопоннес, где спартанцы предавали смерти младенцев, у которых находили недостатки сложения или здоровья.
Феодора долго размышляла, ни с кем не советуясь. Главное ей предстояло решать одной за всех: как княгине.
Несколько дней она избегала своих воинов; пока ее на перехватил на прогулке Филипп, тот самый македонец, который ходил на разведку без всякого ее ведома. Феодора с ним почти не говорила до сих пор; а сейчас этот воин оттеснил ее под деревья, подобно Теоклу, и, стоя совсем близко, предупреждал:
- Скоро может выпасть снег, и тогда уйти будет намного труднее.
Снег Феодора видела и прошлой зимой, которую встретила здесь, - но его выпало совсем мало. Она удивилась:
- В чем же трудность?
Филипп развел руками, словно изумляясь такому женскому недомыслию. Но Феодора уже и сама поняла: следы. Конечно. И гораздо холоднее будет ночевать.
- Но ведь если пойдет снег, он собьет собак со следу, - сказала московитка.
Само собой, Валент держал здесь собак – как для охоты, так и… на такой вот случай.
Филипп покачал головой.
- Едва ли. Псы ведь натасканы выслеживать дичь круглый год. А вот людям придется труднее, и спрятаться среди снегов – тоже. Далеко будет заметно, даже ночью!
- Решай сейчас, - настаивал македонец; он сжал ее плечи, точно вразумлял товарища, а не уговаривал женщину; Феодора едва заметила – так напряженно думала.
- Мы бежим, - наконец сказала она.
Филипп улыбнулся, показав щербатые зубы: он был крепок как дуб, потрепанный бурями и устоявший.
- Очень хорошо, я передам нашим.
Он повернулся и ушел, а Феодора поняла – уже невозможно ничего перерешить. Как князю нельзя отозвать дружину, которую он бросил в бой: и впереди которой скачет сам…
Вечером того же дня в пустом темном коридоре хозяйка обговорила план побега с Теоклом.
Они покинут дом ночью – воины хорошо видели в темноте; возьмут лошадей на каждого мужчину и на госпожу: на тех, кто умеет держаться в седле. Больше лошадей им не свести; и лишние кони обременят их. Еду Теокл тоже обещал достать – мужчины намного лучше нее могли соразмерить общие нужды с длиною и трудностями пути. Женщинам оставалось позаботиться о себе и о детях.
Феодора спрашивала, как ей везти младенца Льва, - ведь его даже не усадить на коня!
- Привяжешь за спину, - невозмутимо ответил Теокл. – Крестьянки часто так таскают детей, когда им нужны руки!
- Но ведь он может закричать, - сказала госпожа: в ужасе от внезапной мысли, что маленький Лев может предать своих так же, как его отец.
Теокл отвел глаза, скрывая неприятный блеск, – ведь они говорили о сыне изменника!
- Придется заткнуть ему рот.
Феодора возмутилась на мгновение; но потом кивнула. Больше ничего не остается.
Побег назначили через сутки – чтобы не забыть ничего. Феодора первым делом увязала свои книги: она не могла иначе, хотя и понимала, что может погубить лишней поклажей себя и товарищей. Но бросить в горах сокровища Буколеона – муж сказал ей, где брал их, - было выше ее сил: тем более, что она одна из всех беглецов могла оценить их значение для истории!
Вечером накануне побега в ее спальню пришли обе служанки; Магдалина привела детей. Анастасия была бледненькой и дрожала; но крепилась, понимая, что они опять куда-то бегут и опять надо молчать. Брат обнимал ее за плечи, как взрослый.
Магдалина, когда у нее освободились руки, наклонилась и оправила штаны, надетые под монашеского покроя платье: такие же, как у Аспазии, которая хотела одеться совсем по-мужски – но хозяйка отсоветовала ей. С юбкой поверх шаровар будет теплее; а иначе можно застудить то, что женщине никак нельзя застужать!
Льва мать спеленала последним, завернув в вязанное из козьей шерсти одеяло.
- Надеюсь, не замерзнет, - сказала она.
Тут за дверью раздались мужские шаги, и к женщинам заглянул Филипп.
- Готовы?
Феодора кивнула.
Она взяла на руки сына, которого нужно было вздеть на спину, точно вещевой мешок; она не знала, как это сделать. Хотела уже попросить Магдалину о помощи; но тут македонец подошел к ним.
- Дай-ка мне, - сказал он, понимая намерение московитки.
Филипп посмотрел на нее.
- Давай платок.
- Зачем? – спросила мать. Она не сразу вспомнила об этой ужасной предосторожности. А Лев уже начинал похныкивать, кося на чужого мужчину черными восточными глазами.
Феодора наконец нашла и протянула Филиппу льняной платок; воин скомкал его и ловко затолкнул двумя пальцами в приоткрытый ротик ребенка. Лев кашлянул; Феодора невольно вскрикнула.
Но все было благополучно: сын не задыхался и не выплевывал платка. А македонец, как будто этого не хватило, еще и перевязал его рот снаружи большим шерстяным платком, в который Лев был закутан под одеялом.
- Ну вот, - удовлетворенно сказал Филипп Феодоре. – Теперь наклоняйся, я привяжу его тебе за спину.
Феодора послушно повернулась и наклонилась, уперев руки в колени; и позволила хватать себя и перевязывать, как младенца.
Потом Филипп приказал:
- Выходите - за мной, не отставать! Огня зажечь нельзя, так что смотрите в оба!
Феодора шла, пригибаясь под тяжестью, давившей на плечи, и думала, что если сын задохнется там, сзади, она может и не почувствовать.
Ей почему-то почти совсем не было страшно за исход их предприятия. Блаженное – всевидящее безумие матери!
Они вышли черным ходом – снаружи их ждали оставшиеся четверо воинов, удерживавшие лошадей. Вся их надежда!
Леонид подсадил на лошадь госпожу, потом помог остальным женщинам сесть за спины к Максиму и Теренцию; он сам и Теокл взяли детей. Филипп, единственный свободный, был проводником.
Они тронулись шагом – пока можно было ехать свободно, и еще долго будет можно; ущелья и кручи начнутся не сейчас. И преследователям окажется так же легко их догонять, как им – убегать…
Феодора почувствовала, как сильно стукнуло сердце: она пересекла незримую границу, которой никогда не переступала, гуляя около дома. Даже с Валентом, позволявшим ей, бывало, немного больше свободы. Но сейчас!..
- Собак мы долго подкармливали, - пробормотал Теокл хрипло. – Не думаю, что… Но ведь дикари могут привести новых, мы не уследим!
И тут позади раздался лай.
- Смелей! – крикнул Филипп, прежде чем все опомнились. – Впереди широкий ручей… След точно потеряется!
Он ударил по холке испуганно храпевшую лошадь Феодоры, и, пришпорив своего коня, вынесся вперед. Собачий лай приближался; но потом так же стал отдаляться. Донеслись человеческие голоса – чужие языки; и тоже смолкли. Неужели чутье подвело азиатов, и они уводили собак прочь?..
- Может, тоже вспомнили о ручье! Или решили собраться как следует, чтобы затравить нас при свете дня! – воскликнул Теокл.
- Мы свели почти всех лошадей, - ответил Леонид. – Но это их ненадолго задержит, они завтра же раздобудут других! У них ведь здесь не одно хозяйское логово – все горы, почитай, их! Чем они промышляли с…
- Не болтай! – прикрикнул Филипп на некстати разговорившегося товарища.
Они все-таки нашли и пересекли широкий, быстрый и холодный ручей, о котором говорил македонец: хотя это препятствие для врагов сейчас представлялось совсем не таким великим.
Они двигались вперед еще долго – и скоро пришлось спешиться; начались спуски, и стали попадаться теснины и тропы, которых лошадь не могла одолеть. Филиппу пришлось искать обходные пути, о которых он не думал прежде.
Остановились на отдых они перед рассветом; Филипп не только не радовался, а был близок к злому отчаянию.
- Не бросить ли здесь коней! Нас ведь завтра же сцапают, ползем, как черепахи! – говорил он. – Валент точно знает, где спускаться верхом; и эти узкоглазые знают!
- Без коней никак, - возразил Теокл: другой негласный предводитель. – На равнине все решит только скорость!
Феодора с помощью служанок отвязала и покормила сына, который после такого обращения долго капризничал и отказывался есть; но потом так впился губками в материнскую грудь, что причинил боль.
Феодора качала его, пока он не заснул, молясь об одном, об одном: только бы сын не закричал.
Лев заснул, и московитка позволила Аспазии накормить себя сухарями и напоить водой из баклаги; и тогда крепко заснула сама, укутав себя и ребенка в плащ. Рот его остался свободен.
Когда рассвело, госпожу разбудил Теокл.
- Корми ребенка, и поедем. Времени мало.
Когда закончили со Львом, которому опять заткнули и завязали рот, стало совсем светло.
"Мы не уйдем… Не уйдем", - молотом стучало в голове у Феодоры. Ей помогли сесть в седло, и она села, не ощущая ничего, кроме страха погони и обреченности. Они поехали вперед, часто останавливаясь и опять нащупывая путь.
- Если повезет… к вечеру мы будем внизу, - говорил Филипп; но словно бы с каждым часом все меньше в это верил. Малодушие? Или предчувствие, которое редко обманывает опытных воинов?
И когда солнце оказалось над головой, осияв все далеко окрест, случилось то, чего так боялась московитка.
Лев не терпел, когда ему отказывали в желаниях; и еще меньше мог вынести путешествие с заткнутым ртом. Он был сын своего отца! И когда Феодора ехала, в кои-то веки почти позабыв о том, кто у нее за спиной, Лев закричал. Он все-таки выплюнул кляп и выпутался из одеяла! И никто не видел, когда и как!
Крик Валентова сына, и дома неслабый, здесь был ужасен: эхо повторяло его снова и снова. Что-то громыхнуло над головами в ответ, словно горы наказывали непочтительных пришельцев.
- Обвал!.. – вырвалось у Филиппа. – Вот сученыш!
Феодора даже не рассердилась на такое имя, данное ее ребенку: стало уже некогда.
Точно крик младенца Льва был условным сигналом, над кручами, позади, справа и слева выставились головы – в повязках и гололобые, узкоглазые и широкоглазые, черные и рыжие, в турецкую масть. С азиатами были лошади – и злые псы, которые натягивали поводки, срываясь с лая на хриплый кашель. Может быть, их нарочно не кормили!
Лев, словно наконец довольный, замолчал.
Феодора увидела, как воины, залегшие над ними, нацеливают свои страшные луки и натягивают тетиву. Азиаты были высоко и далеко – долго спускались бы к ним со своими лошадьми; но стоит им расстрелять мужчин, и они возьмут женщин и детей голыми руками…
И тут, первым из всех, опомнился Теокл.
Женщина могла ложиться с другой женщиной; могла сражаться, даже убить свое дитя – но то, что сделал Теокл, мог сделать только мужчина! Феодора не успела даже ахнуть, как воин сорвал у нее со спины живой сверток, который опять завопил. Схватив ребенка за ножки, Теокл свирепо крикнул:
- Сейчас сброшу это отродье в пропасть! Только попробуй кто-нибудь выстрелить!..
Он попятился вместе с конем; Феодора сидела на своей Тессе как мертвая. Она в первый миг рванулась на крик сына, но Леонид, тотчас же понявший намерение своего филэ, вцепился ей в плечо. Теокл, как и Леонид, был фессалиец*; но сейчас Феодора видела перед собою спартанца, решавшего над обрывом, на скале Тайгета*, участь негодного младенца – жить ему или умереть.
Над головами беглецов опять залаяли собаки; азиаты пошевельнулись, прозвучало разноголосье – но тут же люди опять замолчали. Они видели, что Теокл совсем не шутит; и Феодора чувствовала всем существом, что ему и в самом деле хотелось выполнить свою угрозу, предав сына предателя спартанской смерти…
Беглецы, не сговариваясь, тронули лошадей; никто из врагов не двинулся. Даже если и не все они понимали по-гречески, угроза Теокла не нуждалась в словесном подкреплении.
Когда луки опустились, воин бросил младенца матери, почти с отвращением; Лев опять раскричался.
- Только попробуйте кто спустить собак! – пригрозил фессалиец врагам напоследок. Он утер пот со лба.
Даже такой нечеловеческий поступок задержал бы погоню ненадолго; и все понимали это. Но тут случилось другое.
Горы вокруг точно вздохнули, потом послышался шорох… мелкий стук… Азиаты закричали, оборачиваясь на кручи, вздымавшиеся над самыми головами.
В горах никогда нельзя кричать – это знали все взрослые люди; но младенец Лев не знал. И когда он нарушил это правило, сдерживаться стало уже бесполезно.
Вокруг беглецов все начало осыпаться, крошиться; кони врагов заржали, оскальзываясь, и завизжали свирепые псы, такие же бессильные против гнева гор, как и их хозяева. Звуки их маленьких смертей тонули в нарастающем грохоте.
Беглецы стояли – они стояли безопаснее всех, - схватившись друг за друга и за своих лошадей; кто успел, спешился, а растерявшиеся женщины только зажмурились, оставшись в седлах. Грохот не прекращался, прерываясь только на несколько обманчивых мгновений, - обваливалось то там, то здесь, увлекая в бездну не одну человеческую жизнь. Но когда все стихло, оказалось, что никто из отряда не пострадал.
Все в пыли и каменном крошеве, беглецы смотрели друг на друга, не в силах вымолвить ни слова.
Филипп огляделся – вокруг и над ними ничего не шевелилось. Если даже кто из врагов и остался жив, они встанут не сейчас – и крепко подумают, прежде чем продолжать погоню! Только те, кому нечего терять, отважатся ехать дальше.
- Едемте, - нарушил молчание Теокл. – Нельзя терять время!
Феодора крепко прижала к себе ребенка, который наконец замолчал, как и земля под ними.
- Он нас всех спас! Мой маленький Лев – наш спаситель!..
Она подумала, сколько человек только что уничтожил ее младенец, не ведая о том, - и содрогнулась. Еще не сознавая себя, он воевал по-азиатски, не считаясь ни с какими законами и не считая убитых!
- Даже дитя видит, где лежит правда, - прошептала мать, заглушая голос совести: правда бывала очень жестока.
- Дитя видит, а мужчины забывают, - отозвался Теокл; человек, который мог сбросить в пропасть ее сына, сейчас мрачно и удовлетворенно улыбался.
- Едемте дальше! – поторопил всех Филипп, далекий от благоговения перед судьбой. – Быстрее, а то все будет зря!
К вечеру они и в самом деле спустились с гор, и смогли остановиться: женщины были едва живы от усталости, и все – слишком потрясены, чтобы радоваться.
И никто не знал, куда держать путь, - даже Филипп.
Они поели и тут же устроились спать; мужчины стерегли по очереди. Несмотря ни на что, терять бдительность было нельзя.
Когда беглецы проснулись и поскакали дальше, благоразумно решив расспросить о том, где они находятся, в ближайшем селении, - то, проехав по солнцу совсем немного, увидели, что к ним приближается вооруженный отряд.
Мужчины схватились за оружие. Но этих воинов оказалось лишь в полтора раза больше, чем их самих; и вид у них был такой, точно они сами заблудились и нуждались в помощи.
- Кто вы такие? – воскликнул Филипп, до конца остававшийся вождем.
- А кто вы? – ответил по-гречески предводитель встречного отряда, с удивлением разглядывая их, будто оценивая – сойдут ли они за тех, кого он ищет.
Он заметил женщин и детей и прибавил уже с надеждой, с воодушевлением:
- Нам нужна госпожа Феодора Нотарас и ее дети, похищенные из дома…
Феодора быстро выехала вперед, не слушая никаких предостережений, которые раздались вокруг.
- Это я! – воскликнула она. – Кто прислал вас?
- Госпожа Кассандра, - ответил предводитель. – Кассандра Катаволинос!
Тут этот суровый, исхудалый воин совсем по-детски потер глаза кулаками. Он снова взглянул на Феодору, будто никак не мог поверить себе, - детская улыбка раздвинула пухлый рот, потерявшийся в щетине.
- Это и в самом деле ты, госпожа? Никто уже не верил, что мы найдем тебя, и мы ехали назад!
Феодора засмеялась и заплакала сразу.
- Ну вот, вы и нашли меня, - сказала она.
Теокл отвязал ребенка от ее спины и подал ей, и московитка высоко подняла его, показывая людям Кассандры.
* Фессалия (Тессалия) - историческая область в средней части Греции, у побережья Эгейского моря.
* Горный хребет в Спарте, на юге полуострова Пелопоннес, где спартанцы предавали смерти младенцев, у которых находили недостатки сложения или здоровья.
Re: Ставрос
Глава 90
"Страшна казнь, тобою выдуманная, человече! - сказал бог.
- Пусть будет все так, как ты сказал, но и ты сиди вечно там
на коне своем, и не будет тебе царствия небесного, покамест ты
будешь сидеть там на коне своем!"
Н.В.Гоголь, "Страшная месть"
Им пришлось долго искать дорогу, даже с людьми Кассандры: те и в самом деле почти заплутали. Посланные жены Дионисия признались московитке, что давно заехали в незнакомые земли, и не один только долг перед хозяйкой мешал им повернуть назад.
- Долговато тебя искали! – заметил предводитель, который все косо посматривал на ребенка: даже после того, как все словно бы успокоились, выслушав историю освобожденных пленников.
Впрочем, сказать худого слова Феодоре никто не посмел бы: ее воины, вместе с нею поборовшие смерть и жестокую вражью волю, встали бы за нее горой. Да было и не до раздоров: в спину им дышали враги. Только бы добраться до дома – единственная мысль, за которую цепляется тот, кто чудом бежал из плена!
- Мы отвезем тебя к твоему мужу, в дом Льва Аммония, где он сейчас вместе с Феофано, - говорили Феодоре ее спасители. – А потом дадим знать патрикию Дионисию Аммонию.
Феодора улыбалась и кивала, слишком усталая, чтобы говорить. Она думала – что скажет муж, увидев ее исхудалой, грязной, чужой, постаревшей на год - с сыном Валента Аммония на руках?
Но даже эти мысли не слишком ее тревожили: такое ли она видела!
"Неужели Фома совсем не искал меня? – неприязненно думала московитка, когда ее оставляли наедине с собой. – Неужели так и не смог расхрабриться? А может, я теперь буду ему мерзить, он будет избегать меня касаться – после того, как я принадлежала Валенту?"
Феодора улыбнулась. Очень может быть: Фома Нотарас брезглив… и слишком хорошо помнит в своем сердце, кто такая его жена. Что ж, ей не стыдно быть русской рабой, называться так, пожалуй, иной раз почетнее, чем знатной гречанкой! И она знает таких людей, которые умеют долго любить: достаточно храбрых и великодушных для этого.
Сейчас даже те ее воины, с которыми она почти не разговаривала, - и македонский буян Филипп, и неразговорчивый и грубый, как римский легионер, Максим, - стали ей ближе собственного мужа. Однако когда они встретятся, наверное, все переменится: о человеке издали всегда думаешь иначе, чем вблизи! А тем паче – о бывшем возлюбленном, которого женщине никогда невозможно забыть, как бы она ни хотела!
- Мы едем домой к отцу? – спросил Вард, заглянув матери в глаза на первом привале.
Феодора молча кивнула: она не знала, как это объяснить сыну и как говорить с ним об отце.
Вард улыбнулся – с усилием, как взрослый.
- Это хорошо, - сказал он.
Тоже понимал, что хорошего немного. Вард знал, что он спасен: но был еще слишком мал, чтобы это оценить, и только предчувствовал своим сердечком новые трудности с новым человеком.
Бедный малыш! Сколько он перенес, едва начав жить!
Но Варду еще только предстояло вырасти и познать любовь, которая могла скрасить самые черные дни: которая сияла тем ярче, чем чернее была тьма. Феодора знала, что ее сын тоже способен на такую любовь: чувство, которое даруется избранным мужам и женам, потому что только достойные могут принять такой великий дар – и воздать за него. Только бы эта прекрасная душа успела созреть и дать плоды!
Она думала о Феофано, и невзгоды, казалось, отступали. Ночью, обнимая сына Валента, Феодора вспоминала глаза своей подруги, ее тело, на котором она по памяти могла пересчитать все шрамы…
Так же, как шрамы на теле отца этого ребенка.
Валент и Феофано – мужчина и женщина, возлюбленной которых она была, - были каждый так сильны и неповторимы, что даже мимолетная мысль об одном из них тут же вытесняла все прочие мысли и чувства. Не так с Фомой: думая о первом муже, Феодора при этом могла думать о десяти других вещах сразу. Патрикий Нотарас был словно тенью великих фигур… тенью, которая может наброситься и укусить, когда от нее отвернешься.
"Мне страшно увидеть его, - думала Феодора, наконец полностью погрузившись в мысль об отце Варда и Анастасии. – Что с ним сталось за это время? Может, запил? Может, моим детям вовсе не стоит встречаться с Фомой?"
Когда они останавливались на ночлег, а вокруг женщин вставали часовые, Феодора вспоминала о том, что за ними может быть погоня… но с каждым часом эта опасность все отдалялась, в нее все меньше верилось: сейчас ее ждали другие грозы.
Ее воины тревожились больше: и даже досадовали, что госпожа так беспечна, словно бы, доверив себя им, перестала думать сама.
- Ничего не будет, - спокойно говорила Феодора. – Довольно с нас пока: разве вы сами не чуете?
И мужчины отступали и замолкали, косясь на нее, как на сивиллу.
Самая непроглядная ночь сменяется днем – и после того, что они испытали, им было позволено передохнуть. Никто не настигал их и не настиг – беглецам встречались лишь мирные люди и лишь помощники: в двух деревнях, где они ночевали, им не только указали путь, а даже пополнили мешки со съестным.
В этих селениях говорили не только по-гречески, но и по-армянски, и по-турецки: но даже Филипп, оглядевшись и принюхавшись, сразу перестал опасаться. Он чуял друзей и своих так же, как врагов.
И, спустя десять дней пути, они оказались в знакомых местах: в Морее, по дороге на Мистру, - у дома Льва Аммония.
А еще через день Феодора завидела вдалеке кресты – кресты с человеческими остовами, которые хозяйка почему-то так и не пожелала убрать…
Маленький Лев разволновался, оказавшись в родных местах: вертелся на руках у матери, у него даже поднялся жар. "Как силен зов крови, - думала Феодора. – А ведь хозяин этих мест умер так давно! Моему Льву надо бы быть у Дионисия, пусть бы тот его усыновил – как наследника, которого так и не дождался!"
Эта мысль, которая давно исподволь просилась на ум, так поразила московитку своей простотой и правильностью, что она облегченно засмеялась. Перекрестье всех дорог было там, где желал этого Господь!
Когда уже показался особняк, - и как ромеи могли жить безвылазно в каменных хоромах, точно в своих склепах? – Феодора слезла с коня и дальше пошла пешком с сыном на руках, как ни ныли ноги и ни просили пощады плечи и спина. Она отдохнет потом – а сейчас ей нужно показаться этому дому так, как следует. Странницей, перехожей милостницей, которая несет свое оправдание на руках.
Она гадала, кто выйдет ей навстречу, - а ну как это будет муж?..
"Нет, не муж, - подумала Феодора. – Он давно погас".
И первым навстречу ей показался человек, которого она любила так же, как своих охранителей; и к которому сильно ревновала свою филэ, хотя и всегда думала, что он слишком прост для Феофано…
Они остановились в десяти шагах друг от друга, узнав один другого – и не зная, как приблизиться.
Однако, когда Феодора покачнулась, Марк первым поспешил навстречу. Он был изумлен необыкновенно; но жизнь приучила его немедленно повиноваться необходимости, какие бы чувства им ни владели.
Феодора успела увидеть, сколько седины прибавилось в черных по-военному коротких волосах спартанца; а потом Марк подхватил ее на руки вместе с ребенком. Феодора припала к его плечу, чувствуя, как налилось свинцом все тело: а ведь она казалась себе такой сильной!
- Не могу поверить, - пробормотал Марк, улыбаясь не то ей, не то ее ребенку, не то себе, которому посчастливилось дожить до такой встречи. – Ты – ты и сын Валента!
- Да, храбрый Марк, это сын Валента, - едва слышно ответила Феодора, не поднимая головы от его плеча, на котором могла бы свободно усесться. – Надеюсь, ты не расскажешь об этом первому Фоме Нотарасу?
- Конечно, нет!
Марк остановился, поглядев ей в лицо.
- Патрикия сейчас и нет здесь, - сказал спартанец. – Он уехал в ваше имение, еще в начале осени… восстанавливать!
- А Феофано? – спросила Феодора, когда схлынуло удивление и облегчение, которые накатили на нее при таком известии.
- Здесь, царица здесь!
Марк глубоко вздохнул, счастливо поглядев на свою ношу. Все расспросы и упреки потом; а сейчас – какая это радость!
- Как наша госпожа будет рада тебе, - сказал он. – Мы не чаяли увидеть тебя в живых!
- Неправда, - прошептала Феодора.
Марк наконец поставил ее – они были уже на аллее перед самым домом. Грек и московитка посмотрели друг другу в лицо.
- Вы боялись не того, что я погибну… а вот этого! – сказала Феодора. – Вы знали, что Валенту не смерть моя нужна!
И она высоко подняла на руках сына.
Марк перестал улыбаться при виде мальчика; он отвернулся. Все же этот воин был слишком честен, чтобы быть приятным.
- Случилось… как случилось, и ничего теперь не поделаешь, - хмуро сказал он.
Хотел пройти в дом первым – предупредить Феофано; но Феодора вдруг схватила Марка за руку.
- Он угрожал смертью моим детям! – воскликнула она шепотом. – Что еще я могла бы сделать?..
Марк покачал головой, не поднимая глаз.
- Я тебя не виню.
Он высвободился и, поднявшись по ступенькам, скрылся в доме. Феодора уткнулась лицом в ладонь, сдерживая рыдания.
Конечно, Марк винил ее – все мужчины, явно или подспудно, винят женщин, попадающих в такое положение! Но он хотя бы не скажет этого вслух и не омрачит радость своей царице. А Феофано винить ее не будет.
Феодора улыбнулась.
Она долго думала, где ее настоящий дом, - все эти годы скитаний! А дом ее был там, где царица амазонок: и только там всегда находились опора и отдохновение, живая вода для ее души…
Но она стояла, все еще не решаясь ни обернуться, ни сделать шаг вперед, - когда дверь открылась еще раз и из дома Льва Аммония показалась Феофано.
Метаксия Калокир первым увидела маленького Льва, а не подругу, - удивительно, но именно так и было: лакедемонянка остановилась, и в ее взгляде отразилось множество чувств, которые никак нельзя было приписать чести женщины. Алчность, и торжество, и злорадство.
Когда она подняла глаза на свою филэ, на лице ее еще сохранялось это выражение: и Феодора улыбнулась. Она любила Феофано всякой! И, как знать, - не такой ли она любила ее больше всего?
Но потом лицо царицы смягчилось, и глаза наполнились счастьем. Феодора от одного такого взгляда ощутила себя в раю.
Феофано подошла к ней и обняла за шею одной рукой, не тревожа ребенка; они замерли так на несколько мгновений. Потом Феодора увидела серые глаза царицы совсем близко – огромные, полные слез, но между четких черных бровей залегла суровая морщинка, которая никогда не разглаживалась.
- Ты постарела, - вымолвила Феофано.
Феодора рассмеялась. В ее груди было так много чувств, что она едва могла вздохнуть.
- И ты тоже, царица!
Феофано погладила ее по волосам.
- Я вижу у тебя седину, - сказала она.
- Мне давно пристало обзавестись этим убором, - сказала московитка. – Так же, как тебе!
Они посмотрели друг другу в лицо, и обе ощутили гордость за свою седину. Несмотря на то, что Феодора была почти вдвое моложе, сейчас она ощутила себя ровесницей подруги: и не променяла бы свой житейский опыт ни на какой другой.
Потом Феодора заметила Марка, который стоял у дома и не приближался, чтобы не мешать встрече, - и подозвала его жестом. Она опустила спартанцу на руки Льва, которому, по-видимому, очень нравилось в доме тезки – отца своего рода!
- Пожалуйста, отнеси его внутрь и уложи где-нибудь в доме, - попросила московитка. – Я попозже приду!
Марк поклонился и молча ушел, ступая так тихо, что задремавший Валентов сын не шелохнулся.
И только тогда Феодора и Феофано обнялись по-настоящему, слившись в одно существо. Феофано гладила подругу по волосам; потом, отстранив от себя, расцеловала - и снова обняла, уткнувшись лицом ей в шею. Обе плакали.
Феофано наконец первая овладела собой. Она обхватила подругу за талию и велела, сдерживая дрожь в голосе:
- Идем в дом, я о тебе позабочусь! Ты ужасно выглядишь!
Феодора хмыкнула.
- Спасибо на добром слове.
У нее в руках уже много дней не было зеркала, не удавалось посмотреть на себя даже в воду – и она почти радовалась, что не удавалось.
Проходя через гостиную, Феодора посмотрела на сына, которого Марк уложил на подушки на одном из кресел; тот спал и, по-видимому, еще долго не проснется.
Феофано посмотрела на своего охранителя.
- Если ребенок проснется и позовет мать, пока нас нет, пусть кто-нибудь из женщин принесет его к нам в баню!
Марк поклонился. Он был хмур – конечно, втайне он досадовал, что вернулась женщина, которая опять будет отвлекать на себя столько внимания его Феофано; но ничего не сказал и не мог бы сказать. Для этого он слишком любил свою госпожу.
Феофано сама взялась мыть свою подругу – как когда-то Феодора ухаживала за ней, вернувшейся из лагеря. С тех пор, как Феодора в последний раз видела тело царицы, конечно, на нем прибавилось шрамов: она догадывалась, что Феофано воевала, быть может, даже сама скакала в атаку. Но с расспросами приходилось подождать – хотя обе сгорали от нетерпения…
На теле Феодоры с тех пор тоже появились новые отметины. Правда, немного – но у догадливой Феофано некоторые знаки вызвали усмешку гнева и ревности.
- Да, он укусил меня два раза, - сказала Феодора, отводя глаза и краснея. – Я тогда почти не почувствовала… а потом…
- Это еще ничего, - сказала Феофано. – Следы страсти… готова поспорить, тебе тогда было очень хорошо!
Она провела пальцами по белому шраму на влажном плече подруги, потом поцеловала его.
- Ты вовремя убежала, любовь моя: до начала унижений. Он мог начать пороть тебя – или…
Феофано закусила губу так, что та побелела. Феодора закрыла глаза, догадываясь, о чем речь: о том же, к чему Никифор Флатанелос пытался принудить Феофано.
Конечно, подобное делали друг с другом любовники-мужчины; наверняка Теокл и Леонид – но Феофано рассказывала, что у мужчин это совсем иначе. Для них это настоящее любовное соитие, в то время как для женщины стыд и осквернение, роняющее ее в своих глазах и глазах мужчины.
Когда Феофано мыла ей волосы, робко постучалась служанка, которая принесла ребенка. Лев уже громко напоминал о себе.
Феофано с улыбкой жестом пригласила служанку войти; та приблизилась и подала ей племянника.
Невзирая на его возмущение, - мальчик громко требовал есть, - его сначала вымыли, а уже потом Феодора подставила сыну грудь. Феофано, сидя поодаль, любовалась ими обоими: и это зрелище, нагая, как наяда, мать, кормящая сына в купальне, казалось еще менее предназначенным для чужих глаз, чем супружеские ласки. Феофано наблюдала картину, которой не мог видеть даже отец этого ребенка, - и утраченное было единение между подругами вновь возникало и крепло с каждой минутой.
Когда Феодора надела хитон, такой же, как у хозяйки, а ребенка завернули в простыню, они пошли в спальню: как следует поговорить. Феодора порывалась было проведать старших детей, но Феофано запретила, сказав, что ей и ее малышу сейчас нужно хорошенько отдохнуть. К детям была послана та же служанка, которая скоро вернулась с известием, что все хорошо.
- Ну и прекрасно, - сказала царица. – Они уже велики, пусть-ка привыкают оставаться без матери!
Когда ребенок снова уснул, они наконец остались вдвоем.
И каждая наконец потребовала от другой подробного рассказа – нужно было пересказать целую жизнь, которую каждая провела вдали от своей филэ!
Феодора, видевшая шрамы на сильных обнаженных руках и ногах гречанки, хотела прежде выслушать ее историю: она ожидала геройства, которое еще больше вознесет Феофано в ее глазах. Хотя выше, казалось, было некуда.
Феофано, рассмеявшись, ответила:
- Да, я хорошо показала себя – но и ты тоже, коль скоро ты здесь, дорогая! И я хочу прежде послушать о тебе.
Феодора рассказывала долго… иногда она краснела, отводила взгляд, но почти не смущалась. Чего ей смущаться, когда Феофано знает ее всю?
Феодора говорила сбивчиво, перескакивая через целые месяцы: зная, что всего не расскажет и за неделю. Когда дошло до жажды другой жены, Феофано остановила московитку жестом: она не в силах была долее слушать.
- Это, пожалуй, самое забавное во всей твоей истории, - сказала она. Усмехнулась. – Каков удалец!
- Ты сейчас хотела бы убить его, не правда ли? – тихо спросила Феодора.
- Нет, - ответила Феофано, улыбаясь. – Я хотела бы его оскопить. Это было бы куда лучше… знаешь, у магометан в их аду есть такая казнь для распутников, которых привязывают к деревьям, в то время как их окружают нагие гурии. И каждое мгновение кажется длиннее вечности! Готова поспорить, что такое Валенту и в голову не приходило!
Феодора перекрестилась.
- Какая жестокая у тебя душа, - сказала она.
Она помедлила.
- Нет, я бы такого Валенту не хотела, царица. Он любил меня… и я любила его, и была счастлива с ним, пусть и недолго. Я не хочу думать о том, что могло бы быть, если бы он успел вернуться!
Феофано улыбнулась, не отвечая: глаза блестели все таким же жестоким блеском.
- И подумай, - прибавила Феодора. – Если бы он мучился так в аду, тебе тоже пришлось бы наблюдать это… все время! Как бы ты вынесла?
- С радостью, - спокойно ответила лакедемонянка. – Но у тебя нежная душа… такая месть не для тебя, ты права.
Феодора не нашлась, что ответить. И ей отчего-то стало стыдно.
- А что же Фома? – тихо произнесла она. – Не знаю, как опять увижусь с ним!
Феофано вздохнула.
- Он тоже будет очень тебя стыдиться, - сказала гречанка. – Конечно, мой бедный брат не мог бы поехать за тобой… куда там! Сначала Фома много пил, потом кое-как взял себя в руки и уехал в ваше имение… впрочем, ты это уже знаешь.
Феодора кивнула.
- Напиши ему, что я вернулась. От твоего дома до нашего еще два дня пути в один конец… я успею подготовиться.
- Хорошо, - ответила царица.
Они надолго замолчали. Вокруг было тихо, и не осталось ничего, кроме их глаз, - они жадно рассматривали друг друга. Потом Феофано сказала, улыбаясь:
- А ведь Валент может вернуться за тобой и вашим сыном… наверняка вернется!
Феодора, не отвечая, улыбнулась, и они одновременно притянули друг друга в объятия: их изголодавшиеся уста встретились.
"Страшна казнь, тобою выдуманная, человече! - сказал бог.
- Пусть будет все так, как ты сказал, но и ты сиди вечно там
на коне своем, и не будет тебе царствия небесного, покамест ты
будешь сидеть там на коне своем!"
Н.В.Гоголь, "Страшная месть"
Им пришлось долго искать дорогу, даже с людьми Кассандры: те и в самом деле почти заплутали. Посланные жены Дионисия признались московитке, что давно заехали в незнакомые земли, и не один только долг перед хозяйкой мешал им повернуть назад.
- Долговато тебя искали! – заметил предводитель, который все косо посматривал на ребенка: даже после того, как все словно бы успокоились, выслушав историю освобожденных пленников.
Впрочем, сказать худого слова Феодоре никто не посмел бы: ее воины, вместе с нею поборовшие смерть и жестокую вражью волю, встали бы за нее горой. Да было и не до раздоров: в спину им дышали враги. Только бы добраться до дома – единственная мысль, за которую цепляется тот, кто чудом бежал из плена!
- Мы отвезем тебя к твоему мужу, в дом Льва Аммония, где он сейчас вместе с Феофано, - говорили Феодоре ее спасители. – А потом дадим знать патрикию Дионисию Аммонию.
Феодора улыбалась и кивала, слишком усталая, чтобы говорить. Она думала – что скажет муж, увидев ее исхудалой, грязной, чужой, постаревшей на год - с сыном Валента Аммония на руках?
Но даже эти мысли не слишком ее тревожили: такое ли она видела!
"Неужели Фома совсем не искал меня? – неприязненно думала московитка, когда ее оставляли наедине с собой. – Неужели так и не смог расхрабриться? А может, я теперь буду ему мерзить, он будет избегать меня касаться – после того, как я принадлежала Валенту?"
Феодора улыбнулась. Очень может быть: Фома Нотарас брезглив… и слишком хорошо помнит в своем сердце, кто такая его жена. Что ж, ей не стыдно быть русской рабой, называться так, пожалуй, иной раз почетнее, чем знатной гречанкой! И она знает таких людей, которые умеют долго любить: достаточно храбрых и великодушных для этого.
Сейчас даже те ее воины, с которыми она почти не разговаривала, - и македонский буян Филипп, и неразговорчивый и грубый, как римский легионер, Максим, - стали ей ближе собственного мужа. Однако когда они встретятся, наверное, все переменится: о человеке издали всегда думаешь иначе, чем вблизи! А тем паче – о бывшем возлюбленном, которого женщине никогда невозможно забыть, как бы она ни хотела!
- Мы едем домой к отцу? – спросил Вард, заглянув матери в глаза на первом привале.
Феодора молча кивнула: она не знала, как это объяснить сыну и как говорить с ним об отце.
Вард улыбнулся – с усилием, как взрослый.
- Это хорошо, - сказал он.
Тоже понимал, что хорошего немного. Вард знал, что он спасен: но был еще слишком мал, чтобы это оценить, и только предчувствовал своим сердечком новые трудности с новым человеком.
Бедный малыш! Сколько он перенес, едва начав жить!
Но Варду еще только предстояло вырасти и познать любовь, которая могла скрасить самые черные дни: которая сияла тем ярче, чем чернее была тьма. Феодора знала, что ее сын тоже способен на такую любовь: чувство, которое даруется избранным мужам и женам, потому что только достойные могут принять такой великий дар – и воздать за него. Только бы эта прекрасная душа успела созреть и дать плоды!
Она думала о Феофано, и невзгоды, казалось, отступали. Ночью, обнимая сына Валента, Феодора вспоминала глаза своей подруги, ее тело, на котором она по памяти могла пересчитать все шрамы…
Так же, как шрамы на теле отца этого ребенка.
Валент и Феофано – мужчина и женщина, возлюбленной которых она была, - были каждый так сильны и неповторимы, что даже мимолетная мысль об одном из них тут же вытесняла все прочие мысли и чувства. Не так с Фомой: думая о первом муже, Феодора при этом могла думать о десяти других вещах сразу. Патрикий Нотарас был словно тенью великих фигур… тенью, которая может наброситься и укусить, когда от нее отвернешься.
"Мне страшно увидеть его, - думала Феодора, наконец полностью погрузившись в мысль об отце Варда и Анастасии. – Что с ним сталось за это время? Может, запил? Может, моим детям вовсе не стоит встречаться с Фомой?"
Когда они останавливались на ночлег, а вокруг женщин вставали часовые, Феодора вспоминала о том, что за ними может быть погоня… но с каждым часом эта опасность все отдалялась, в нее все меньше верилось: сейчас ее ждали другие грозы.
Ее воины тревожились больше: и даже досадовали, что госпожа так беспечна, словно бы, доверив себя им, перестала думать сама.
- Ничего не будет, - спокойно говорила Феодора. – Довольно с нас пока: разве вы сами не чуете?
И мужчины отступали и замолкали, косясь на нее, как на сивиллу.
Самая непроглядная ночь сменяется днем – и после того, что они испытали, им было позволено передохнуть. Никто не настигал их и не настиг – беглецам встречались лишь мирные люди и лишь помощники: в двух деревнях, где они ночевали, им не только указали путь, а даже пополнили мешки со съестным.
В этих селениях говорили не только по-гречески, но и по-армянски, и по-турецки: но даже Филипп, оглядевшись и принюхавшись, сразу перестал опасаться. Он чуял друзей и своих так же, как врагов.
И, спустя десять дней пути, они оказались в знакомых местах: в Морее, по дороге на Мистру, - у дома Льва Аммония.
А еще через день Феодора завидела вдалеке кресты – кресты с человеческими остовами, которые хозяйка почему-то так и не пожелала убрать…
Маленький Лев разволновался, оказавшись в родных местах: вертелся на руках у матери, у него даже поднялся жар. "Как силен зов крови, - думала Феодора. – А ведь хозяин этих мест умер так давно! Моему Льву надо бы быть у Дионисия, пусть бы тот его усыновил – как наследника, которого так и не дождался!"
Эта мысль, которая давно исподволь просилась на ум, так поразила московитку своей простотой и правильностью, что она облегченно засмеялась. Перекрестье всех дорог было там, где желал этого Господь!
Когда уже показался особняк, - и как ромеи могли жить безвылазно в каменных хоромах, точно в своих склепах? – Феодора слезла с коня и дальше пошла пешком с сыном на руках, как ни ныли ноги и ни просили пощады плечи и спина. Она отдохнет потом – а сейчас ей нужно показаться этому дому так, как следует. Странницей, перехожей милостницей, которая несет свое оправдание на руках.
Она гадала, кто выйдет ей навстречу, - а ну как это будет муж?..
"Нет, не муж, - подумала Феодора. – Он давно погас".
И первым навстречу ей показался человек, которого она любила так же, как своих охранителей; и к которому сильно ревновала свою филэ, хотя и всегда думала, что он слишком прост для Феофано…
Они остановились в десяти шагах друг от друга, узнав один другого – и не зная, как приблизиться.
Однако, когда Феодора покачнулась, Марк первым поспешил навстречу. Он был изумлен необыкновенно; но жизнь приучила его немедленно повиноваться необходимости, какие бы чувства им ни владели.
Феодора успела увидеть, сколько седины прибавилось в черных по-военному коротких волосах спартанца; а потом Марк подхватил ее на руки вместе с ребенком. Феодора припала к его плечу, чувствуя, как налилось свинцом все тело: а ведь она казалась себе такой сильной!
- Не могу поверить, - пробормотал Марк, улыбаясь не то ей, не то ее ребенку, не то себе, которому посчастливилось дожить до такой встречи. – Ты – ты и сын Валента!
- Да, храбрый Марк, это сын Валента, - едва слышно ответила Феодора, не поднимая головы от его плеча, на котором могла бы свободно усесться. – Надеюсь, ты не расскажешь об этом первому Фоме Нотарасу?
- Конечно, нет!
Марк остановился, поглядев ей в лицо.
- Патрикия сейчас и нет здесь, - сказал спартанец. – Он уехал в ваше имение, еще в начале осени… восстанавливать!
- А Феофано? – спросила Феодора, когда схлынуло удивление и облегчение, которые накатили на нее при таком известии.
- Здесь, царица здесь!
Марк глубоко вздохнул, счастливо поглядев на свою ношу. Все расспросы и упреки потом; а сейчас – какая это радость!
- Как наша госпожа будет рада тебе, - сказал он. – Мы не чаяли увидеть тебя в живых!
- Неправда, - прошептала Феодора.
Марк наконец поставил ее – они были уже на аллее перед самым домом. Грек и московитка посмотрели друг другу в лицо.
- Вы боялись не того, что я погибну… а вот этого! – сказала Феодора. – Вы знали, что Валенту не смерть моя нужна!
И она высоко подняла на руках сына.
Марк перестал улыбаться при виде мальчика; он отвернулся. Все же этот воин был слишком честен, чтобы быть приятным.
- Случилось… как случилось, и ничего теперь не поделаешь, - хмуро сказал он.
Хотел пройти в дом первым – предупредить Феофано; но Феодора вдруг схватила Марка за руку.
- Он угрожал смертью моим детям! – воскликнула она шепотом. – Что еще я могла бы сделать?..
Марк покачал головой, не поднимая глаз.
- Я тебя не виню.
Он высвободился и, поднявшись по ступенькам, скрылся в доме. Феодора уткнулась лицом в ладонь, сдерживая рыдания.
Конечно, Марк винил ее – все мужчины, явно или подспудно, винят женщин, попадающих в такое положение! Но он хотя бы не скажет этого вслух и не омрачит радость своей царице. А Феофано винить ее не будет.
Феодора улыбнулась.
Она долго думала, где ее настоящий дом, - все эти годы скитаний! А дом ее был там, где царица амазонок: и только там всегда находились опора и отдохновение, живая вода для ее души…
Но она стояла, все еще не решаясь ни обернуться, ни сделать шаг вперед, - когда дверь открылась еще раз и из дома Льва Аммония показалась Феофано.
Метаксия Калокир первым увидела маленького Льва, а не подругу, - удивительно, но именно так и было: лакедемонянка остановилась, и в ее взгляде отразилось множество чувств, которые никак нельзя было приписать чести женщины. Алчность, и торжество, и злорадство.
Когда она подняла глаза на свою филэ, на лице ее еще сохранялось это выражение: и Феодора улыбнулась. Она любила Феофано всякой! И, как знать, - не такой ли она любила ее больше всего?
Но потом лицо царицы смягчилось, и глаза наполнились счастьем. Феодора от одного такого взгляда ощутила себя в раю.
Феофано подошла к ней и обняла за шею одной рукой, не тревожа ребенка; они замерли так на несколько мгновений. Потом Феодора увидела серые глаза царицы совсем близко – огромные, полные слез, но между четких черных бровей залегла суровая морщинка, которая никогда не разглаживалась.
- Ты постарела, - вымолвила Феофано.
Феодора рассмеялась. В ее груди было так много чувств, что она едва могла вздохнуть.
- И ты тоже, царица!
Феофано погладила ее по волосам.
- Я вижу у тебя седину, - сказала она.
- Мне давно пристало обзавестись этим убором, - сказала московитка. – Так же, как тебе!
Они посмотрели друг другу в лицо, и обе ощутили гордость за свою седину. Несмотря на то, что Феодора была почти вдвое моложе, сейчас она ощутила себя ровесницей подруги: и не променяла бы свой житейский опыт ни на какой другой.
Потом Феодора заметила Марка, который стоял у дома и не приближался, чтобы не мешать встрече, - и подозвала его жестом. Она опустила спартанцу на руки Льва, которому, по-видимому, очень нравилось в доме тезки – отца своего рода!
- Пожалуйста, отнеси его внутрь и уложи где-нибудь в доме, - попросила московитка. – Я попозже приду!
Марк поклонился и молча ушел, ступая так тихо, что задремавший Валентов сын не шелохнулся.
И только тогда Феодора и Феофано обнялись по-настоящему, слившись в одно существо. Феофано гладила подругу по волосам; потом, отстранив от себя, расцеловала - и снова обняла, уткнувшись лицом ей в шею. Обе плакали.
Феофано наконец первая овладела собой. Она обхватила подругу за талию и велела, сдерживая дрожь в голосе:
- Идем в дом, я о тебе позабочусь! Ты ужасно выглядишь!
Феодора хмыкнула.
- Спасибо на добром слове.
У нее в руках уже много дней не было зеркала, не удавалось посмотреть на себя даже в воду – и она почти радовалась, что не удавалось.
Проходя через гостиную, Феодора посмотрела на сына, которого Марк уложил на подушки на одном из кресел; тот спал и, по-видимому, еще долго не проснется.
Феофано посмотрела на своего охранителя.
- Если ребенок проснется и позовет мать, пока нас нет, пусть кто-нибудь из женщин принесет его к нам в баню!
Марк поклонился. Он был хмур – конечно, втайне он досадовал, что вернулась женщина, которая опять будет отвлекать на себя столько внимания его Феофано; но ничего не сказал и не мог бы сказать. Для этого он слишком любил свою госпожу.
Феофано сама взялась мыть свою подругу – как когда-то Феодора ухаживала за ней, вернувшейся из лагеря. С тех пор, как Феодора в последний раз видела тело царицы, конечно, на нем прибавилось шрамов: она догадывалась, что Феофано воевала, быть может, даже сама скакала в атаку. Но с расспросами приходилось подождать – хотя обе сгорали от нетерпения…
На теле Феодоры с тех пор тоже появились новые отметины. Правда, немного – но у догадливой Феофано некоторые знаки вызвали усмешку гнева и ревности.
- Да, он укусил меня два раза, - сказала Феодора, отводя глаза и краснея. – Я тогда почти не почувствовала… а потом…
- Это еще ничего, - сказала Феофано. – Следы страсти… готова поспорить, тебе тогда было очень хорошо!
Она провела пальцами по белому шраму на влажном плече подруги, потом поцеловала его.
- Ты вовремя убежала, любовь моя: до начала унижений. Он мог начать пороть тебя – или…
Феофано закусила губу так, что та побелела. Феодора закрыла глаза, догадываясь, о чем речь: о том же, к чему Никифор Флатанелос пытался принудить Феофано.
Конечно, подобное делали друг с другом любовники-мужчины; наверняка Теокл и Леонид – но Феофано рассказывала, что у мужчин это совсем иначе. Для них это настоящее любовное соитие, в то время как для женщины стыд и осквернение, роняющее ее в своих глазах и глазах мужчины.
Когда Феофано мыла ей волосы, робко постучалась служанка, которая принесла ребенка. Лев уже громко напоминал о себе.
Феофано с улыбкой жестом пригласила служанку войти; та приблизилась и подала ей племянника.
Невзирая на его возмущение, - мальчик громко требовал есть, - его сначала вымыли, а уже потом Феодора подставила сыну грудь. Феофано, сидя поодаль, любовалась ими обоими: и это зрелище, нагая, как наяда, мать, кормящая сына в купальне, казалось еще менее предназначенным для чужих глаз, чем супружеские ласки. Феофано наблюдала картину, которой не мог видеть даже отец этого ребенка, - и утраченное было единение между подругами вновь возникало и крепло с каждой минутой.
Когда Феодора надела хитон, такой же, как у хозяйки, а ребенка завернули в простыню, они пошли в спальню: как следует поговорить. Феодора порывалась было проведать старших детей, но Феофано запретила, сказав, что ей и ее малышу сейчас нужно хорошенько отдохнуть. К детям была послана та же служанка, которая скоро вернулась с известием, что все хорошо.
- Ну и прекрасно, - сказала царица. – Они уже велики, пусть-ка привыкают оставаться без матери!
Когда ребенок снова уснул, они наконец остались вдвоем.
И каждая наконец потребовала от другой подробного рассказа – нужно было пересказать целую жизнь, которую каждая провела вдали от своей филэ!
Феодора, видевшая шрамы на сильных обнаженных руках и ногах гречанки, хотела прежде выслушать ее историю: она ожидала геройства, которое еще больше вознесет Феофано в ее глазах. Хотя выше, казалось, было некуда.
Феофано, рассмеявшись, ответила:
- Да, я хорошо показала себя – но и ты тоже, коль скоро ты здесь, дорогая! И я хочу прежде послушать о тебе.
Феодора рассказывала долго… иногда она краснела, отводила взгляд, но почти не смущалась. Чего ей смущаться, когда Феофано знает ее всю?
Феодора говорила сбивчиво, перескакивая через целые месяцы: зная, что всего не расскажет и за неделю. Когда дошло до жажды другой жены, Феофано остановила московитку жестом: она не в силах была долее слушать.
- Это, пожалуй, самое забавное во всей твоей истории, - сказала она. Усмехнулась. – Каков удалец!
- Ты сейчас хотела бы убить его, не правда ли? – тихо спросила Феодора.
- Нет, - ответила Феофано, улыбаясь. – Я хотела бы его оскопить. Это было бы куда лучше… знаешь, у магометан в их аду есть такая казнь для распутников, которых привязывают к деревьям, в то время как их окружают нагие гурии. И каждое мгновение кажется длиннее вечности! Готова поспорить, что такое Валенту и в голову не приходило!
Феодора перекрестилась.
- Какая жестокая у тебя душа, - сказала она.
Она помедлила.
- Нет, я бы такого Валенту не хотела, царица. Он любил меня… и я любила его, и была счастлива с ним, пусть и недолго. Я не хочу думать о том, что могло бы быть, если бы он успел вернуться!
Феофано улыбнулась, не отвечая: глаза блестели все таким же жестоким блеском.
- И подумай, - прибавила Феодора. – Если бы он мучился так в аду, тебе тоже пришлось бы наблюдать это… все время! Как бы ты вынесла?
- С радостью, - спокойно ответила лакедемонянка. – Но у тебя нежная душа… такая месть не для тебя, ты права.
Феодора не нашлась, что ответить. И ей отчего-то стало стыдно.
- А что же Фома? – тихо произнесла она. – Не знаю, как опять увижусь с ним!
Феофано вздохнула.
- Он тоже будет очень тебя стыдиться, - сказала гречанка. – Конечно, мой бедный брат не мог бы поехать за тобой… куда там! Сначала Фома много пил, потом кое-как взял себя в руки и уехал в ваше имение… впрочем, ты это уже знаешь.
Феодора кивнула.
- Напиши ему, что я вернулась. От твоего дома до нашего еще два дня пути в один конец… я успею подготовиться.
- Хорошо, - ответила царица.
Они надолго замолчали. Вокруг было тихо, и не осталось ничего, кроме их глаз, - они жадно рассматривали друг друга. Потом Феофано сказала, улыбаясь:
- А ведь Валент может вернуться за тобой и вашим сыном… наверняка вернется!
Феодора, не отвечая, улыбнулась, и они одновременно притянули друг друга в объятия: их изголодавшиеся уста встретились.
Re: Ставрос
Глава 91
Феодора вновь увидела мужа спустя целых полтора года. Фома Нотарас приехал вместе с посланными сестры.
Московитка была в хозяйской спальне, где они с Феофано только что разговаривали, забыв о целом мире; когда хозяйку позвал Марк, сказавший, что приехал патрикий, Феофано вышла встречать его одна.
Феодора знала, что царственная подруга постаралась смягчить в своем письме историю ее мытарств, - но патрикий был слишком умен, и память о Валенте слишком вещественна, чтобы это получилось. Как смягчишь измену – рождение чужого ребенка? Полтора года врозь, полтора года неведомой мужу жизни в горах, в любви с заклятым врагом Нотарасов и Калокиров?
Феодора была почти спокойна все это время, что ожидала Фому; но когда час пробил, разволновалась необыкновенно. Она то вскакивала, принимаясь ходить по спальне, то бросалась на постель, комкая покрывала. Когда услышала приближающиеся шаги, схватила кубок, в котором Феофано оставила початое вино, и выпила залпом.
Слава богу, что хотя бы ребенок спит!..
Она все еще стояла с кубком в руках, когда дверь отворилась и на пороге появился Фома Нотарас.
Вмиг исчезло все, кроме него, - Феодора не помнила, когда в последний раз ее так поглощал образ мужа: наверное, только в начале их жизни, когда Феодора была совсем юна, еще не родились их дети, а патрикий казался ей прекраснейшим и мудрейшим созданием на свете…
Фома Нотарас очень изменился. Горе не уничтожило его красоту совсем – но то разрушение, которому она подверглась, напомнило Феодоре о римской насмешке над всеми очеловеченными богами. Серые глаза запали, у губ навечно залегли складки; округлились опустившиеся плечи и раздалась талия – правда, немного, но Феодору, всегда помнившую мужа стройным, эта разница поразила.
Золотые волосы патрикий отрастил ниже плеч – он во всем походил на римлянина, кроме этого: и длинными своими волосами почему-то напомнил Феодоре спившегося и опустившегося греческого царя, который горько смеется над всем, что раньше доставляло ему наслаждение. Потеряв самое дорогое, он утратил вкус и к прочим радостям: и не чает себе утешения ни в жизни, ни за чертою смерти.
Фома Нотарас смотрел на нее, улыбаясь, так что резче обозначились складки у рта, - а неподвижные глаза его, окруженные тенями, почему-то пугали освобожденную пленницу. Что было это самое дорогое, утраченное греческим патрикием?
Жена и дети – а может, его мужская честь, остатки храбрости, родовая гордость, которые он утопил в вине?..
"Нам это еще аукнется… он это припомнит, и так, что всем придется очень несладко", - подумала Феодора.
Потом муж первым сделал шаг: он направился к московитке, ступая, как человек, утративший цель. Феодоре даже показалось, что Фома промахнется, готовясь принять ее в объятия.
Но он не промахнулся – и Феодора застыла от ужаса, когда Фома неловко погладил ее по спине. Потом выпустил жену из объятий и ткнулся ей в щеку губами. Ее подбородок кольнула щетина, но было видно, что Фома недавно гладко брился. Нет, он давненько взял себя в руки.
- Здравствуй, - наконец глухо сказал патрикий. Он больше не улыбался, а говорил так, точно его терзает непроходящая боль.
Он не смотрел на жену, но заговорив с московиткой, покосился на нее – с прежним детским, обиженно-доверчивым, выражением: у Феодоры немного посветлело на душе. Она заставила себя улыбнуться.
- Здравствуй, муж мой.
Фома усмехнулся в ответ на такие слова; но детское выражение сохранялось.
Феодора знала эту личину: кого-то она могла обмануть… и в чем-то Фома Нотарас действительно оставался дитятей, который тянулся к ласке обожаемой женщины; но на самом деле греческий патрикий был далек от простоты с кем бы то ни было, в том числе и с обожаемыми женщинами.
Феодора почувствовала, что, несмотря на все перенесенные испытания и пощечины от судьбы, муж остался во многом прежним. И, быть может, именно сейчас измышлял изощренную месть… так же, как Феофано.
Наконец, после очень долгого молчания, Фома нарушил тягостную тишину.
- Твой сын сейчас спит?
"Наш сын", чуть было не поправила Феодора; едва прикусила язык. Это только для женщины все дети – свои!
- Спит, - сказала она. Помедлила. – Хочешь взглянуть на него?
Фома кивнул. Почему-то это пожелание изумило Феодору: но, конечно, она не отказала. Повернулась и пошла, показывая мужу дорогу, - стараясь не коснуться его; впрочем, патрикий и сам избегал ее касаться.
Лев спал так крепко, что Фома смог склониться над колыбелькой, - той самой, где спали еще дети Метаксии, - и внимательно рассмотреть его черты, смелый росчерк черных бровей и густые черные волосы.
- Красивый и крепкий ребенок, - наконец заключил обездоленный муж, взглянув на Феодору. Он улыбнулся. – Тебе повезло.
Феодора отвернулась и расплакалась, закусив губу. Она сдерживалась, чтобы не разбудить сына; впрочем, его было так же нелегко разбудить, как и утихомирить.
Фома наблюдал ее слезы, не приближаясь и не делая попытки успокоить. Когда Феодора перестала плакать, сказал:
- Пойдем отсюда, пусть он спит!
Феодора кивнула. Конечно, Фоме совсем не хотелось оставаться рядом с вражьим сыном.
Когда они покинули детскую, Фома прикрыл за ними обоими дверь.
Феодора хотела уйти, хотя бы отойти подальше, слишком трудно им было стоять рядом, - но муж задержал ее вопросом:
- Скажи мне только одно… ты любила его?
Феодора подняла глаза – муж смотрел ей в лицо так, точно от ее ответа зависела его судьба. Но она устала быть сивиллой и распорядительницей судеб. Московитка прикрыла глаза.
- Да, любила, - шепотом ответила она.
Фома усмехнулся.
- Я так и знал.
Он не бранил ее, даже не сердился – он слишком, слишком хорошо все понимал, этот умнейший человек своего упадочного времени!
Феодора ощутила, как муж взял ее за руку: расслабленной, какой-то безжизненной рукой. Потом отпустил.
- Поэтому у вас получился такой славный сын.
- Наверное, - ответила Феодора. Она старательно смотрела в сторону.
Они долго молчали, она чувствовала на себе жгучий взгляд патрикия, - потом московитка прибавила:
- У тебя тоже прекрасный сын, и стал еще лучше за это время... Ты уже говорил с ним?
- Нет… только любовался издали, - ответил Фома.
Она посмотрела на него, и увидела, что муж улыбнулся: мягкой, раздирающей душу улыбкой.
- Ты права, наш Вард стал еще лучше. Он точно не в меня пошел.
- Не говори так! – воскликнула Феодора; ощущая ужасный стыд потому, что сама думала то же самое.
Фома наконец посмотрел ей прямо в глаза и смог открыто улыбнуться: ей оставалось только гадать, каких усилий над собой это ему стоило.
- Я очень рад, что ты цела - и дома. Метаксия тоже без тебя исчахла.
Феодора кивнула, смаргивая слезы.
Потом Фома прибавил – и это тоже стоило ему огромного усилия:
- Я сделал все, что мог.
- Я знаю, - прошептала Феодора, - конечно, Фома.
Конечно – немногие на его месте сделали бы больше: отыскать ее оказалось почти чудом, и даже посланники, которых отрядили на ее поиски, и те натолкнулись на нее случайно! Если бы не отчаянная храбрость ее воинов, люди Кассандры тоже ее не нашли бы!
Да что говорить – в горах всех их спас младенец! Тот, кто менее всего мог бы чем-нибудь похвалиться!
Но, несмотря на это, Феодора ощущала, что никогда уже не сможет полюбить патрикия Нотараса прежней любовью: как выросшая девочка, которой стало тесно ее платье. Им нужно теперь учиться любить друг друга как-то иначе.
"Господи, только бы мне не привелось опять спать с ним, по крайней мере скоро… хотя он, наверное, первым об этом не напомнит. Он не Валент".
Феодора вздохнула и, шагнув к патрикию, коснулась его плеча: плечо было мягким, словно он давно уже не брал в руки оружия. Но Фома не отдернулся при ее прикосновении, глядя на Феодору теперь с ожиданием – будто она опять могла сообщить ему смысл жизни, придать ей направление…
"Прости, муж мой, не могу… Нет, не так: едва ли я смогу придать твоей жизни то направление, которого ты ждешь".
- Пойдем к Варду вместе… Я с ним поговорю, и сын узнает тебя, вот увидишь, - предложила она.
Фома кивнул: так же, как соглашался посмотреть на сына Валента. Феодора пошла впереди, скрепя сердце.
Разговор со старшим сыном получился – малыш Вард вспомнил своего золотоволосого Феба; и даже искренне обнял отца. Патрикий не ожидал такого порыва, и почувствовал себя еще более виноватым и уязвленным вместе, чем прежде.
Анастасия тоже, казалось, припомнила отца; но она была еще слишком мала, чтобы как следует различать людей, кроме матери, - и не проявила особенной радости при виде Фомы Нотараса, только настороженное любопытство. И это, казалось, принесло ему облегчение.
Когда они с женой снова остались вдвоем, Фома сказал – он немного ожил за эту встречу:
- Я взялся восстанавливать наш дом… и уже много сделал, он почти прежний!
Феодора смотрела на него, не отвечая, - конечно, она понимала это скрытое приглашение; но не спешила его принимать. Московитка скрестила на груди руки. Фома потупился, опустив длинные темно-золотистые ресницы.
- Конечно, ты можешь жить здесь, пока не стесняешь Метаксию. Тебе и твоему ребенку нужно отдохнуть.
Феодора кивнула.
Разумеется, она оставалась женой этого человека: он был самым законным из ее любовников, потому что она все-таки венчалась с ним, пусть и обманным путем, и в храме, давно лишенном святости! И сейчас они оба делали вид, будто Фома Нотарас по-прежнему имеет над нею право мужа, и только из деликатности воздерживается от того, чтобы приказывать.
Но оба понимали, что прежнее его право утрачено давно: и если Феодора скажет нет, Фома ни на чем не настоит.
Но Феодора щадила его гордость – а патрикий ее свободу. Как хорошо, что они хотя бы понимали друг друга не хуже прежнего!
Фома наконец хотел уйти; но тут Феодора задержала его.
- Я тебя всегда любила и помнила, - сказала она: и поняла, что сказала искренне. Фома кивнул.
- Я знаю, дорогая.
Он ушел, склонив золотую голову. Феодора провожала его взглядом – и думала, что союзы всегда угодны Богу, в то время как вражда омерзительна… и женщине, хранящей семью, малую церковь, по своей природе труднее всего разорвать союз любви, как бы тяжел он ни стал. Чтобы хранить любовь, нужно божественное терпение!
Но для женщины это естественно.
И теперь, стало быть, - у Желани Браздовны два мужа, потому что она полюбила и приняла в себя обоих! А скоро думает, если посчастливится, взять себе и третьего!
Феодора перекрестилась.
"Что бы ни было… против воли Бога ничего не случится", - подумала она словами Феофано.
Боже, храни Византию – и Леонарда Флатанелоса: хотя бы до тех пор, пока им не приведется снова встретиться.
Фома Нотарас вскоре уехал – один, как и приехал: отговорившись тем, что его еще ждут неоконченные дела. Конечно, и Феофано, и Феодора понимали, что значат его слова: но тем легче было распрощаться, потому что с этими женщинами не требовалось никаких объяснений.
- Он ведь так и не сказал, желает ли быть отцом Льву, - заметила Феодора хозяйке после отбытия мужа. – А я не спросила…
- Что тут спрашивать! – ответила Феофано.
Сделала презрительный жест – не то в ее сторону, не то в сторону брата.
- Конечно, он не желает! А что не спросила – правильно. У моего братца особенная гордость, ты знаешь, - Феофано улыбнулась. – Он сам ни за что не откажется от ребенка, которого родила его жена; но будет не прочь, если за него откажемся мы с тобой. Фома Нотарас всегда все самые важные вопросы своей жизни предоставлял решать женщинам.
Она вздернула подбородок.
- Все бы так делали!
Феодора рассмеялась вместе с царицей.
- Так что, - серьезно спросила Феофано. – Ты отдашь своего Льва Дионисию? Ты твердо решила?
- Я никогда не чувствовала его как своего, даже тогда, когда носила под сердцем, - тихо ответила московитка. – Он – их, Аммониев… так будет лучше для всех.
Когда приехал Дионисий, он сперва извинился за задержку – говорил, что был в Константинополе. На него накинулись было с расспросами; но военачальник покачал головой.
- Это подождет, - сказал старший брат Валента и младший - Льва. – Сперва я хочу взглянуть на ребенка.
И когда взглянул, остался более чем удовлетворен – и очень взволнован.
- Я готов поклясться, что именно таков был мой старший брат во младенчестве, хотя я не мог видеть его!
Феодора глубоко вздохнула, набираясь храбрости сделать свое предложение.
- Это твой племянник, - начала она.
Дионисий улыбнулся, выручая ее.
- У меня уже есть тот, кого я горд называть племянником, - сказал старший Аммоний. – А этого ребенка был бы горд назвать сыном!
Посмотрев на московитку, он медленно склонил голову.
- С твоего согласия, госпожа Феодора. Я говорил об этом с Кассандрой – она была бы счастлива!
Феодора закраснелась.
- Это я и хочу тебе предложить, господин.
Дом Льва Аммония Дионисий покинул, увозя с собой наконец обретенного сына.
Наступала весна 1453 года.
Феодора вновь увидела мужа спустя целых полтора года. Фома Нотарас приехал вместе с посланными сестры.
Московитка была в хозяйской спальне, где они с Феофано только что разговаривали, забыв о целом мире; когда хозяйку позвал Марк, сказавший, что приехал патрикий, Феофано вышла встречать его одна.
Феодора знала, что царственная подруга постаралась смягчить в своем письме историю ее мытарств, - но патрикий был слишком умен, и память о Валенте слишком вещественна, чтобы это получилось. Как смягчишь измену – рождение чужого ребенка? Полтора года врозь, полтора года неведомой мужу жизни в горах, в любви с заклятым врагом Нотарасов и Калокиров?
Феодора была почти спокойна все это время, что ожидала Фому; но когда час пробил, разволновалась необыкновенно. Она то вскакивала, принимаясь ходить по спальне, то бросалась на постель, комкая покрывала. Когда услышала приближающиеся шаги, схватила кубок, в котором Феофано оставила початое вино, и выпила залпом.
Слава богу, что хотя бы ребенок спит!..
Она все еще стояла с кубком в руках, когда дверь отворилась и на пороге появился Фома Нотарас.
Вмиг исчезло все, кроме него, - Феодора не помнила, когда в последний раз ее так поглощал образ мужа: наверное, только в начале их жизни, когда Феодора была совсем юна, еще не родились их дети, а патрикий казался ей прекраснейшим и мудрейшим созданием на свете…
Фома Нотарас очень изменился. Горе не уничтожило его красоту совсем – но то разрушение, которому она подверглась, напомнило Феодоре о римской насмешке над всеми очеловеченными богами. Серые глаза запали, у губ навечно залегли складки; округлились опустившиеся плечи и раздалась талия – правда, немного, но Феодору, всегда помнившую мужа стройным, эта разница поразила.
Золотые волосы патрикий отрастил ниже плеч – он во всем походил на римлянина, кроме этого: и длинными своими волосами почему-то напомнил Феодоре спившегося и опустившегося греческого царя, который горько смеется над всем, что раньше доставляло ему наслаждение. Потеряв самое дорогое, он утратил вкус и к прочим радостям: и не чает себе утешения ни в жизни, ни за чертою смерти.
Фома Нотарас смотрел на нее, улыбаясь, так что резче обозначились складки у рта, - а неподвижные глаза его, окруженные тенями, почему-то пугали освобожденную пленницу. Что было это самое дорогое, утраченное греческим патрикием?
Жена и дети – а может, его мужская честь, остатки храбрости, родовая гордость, которые он утопил в вине?..
"Нам это еще аукнется… он это припомнит, и так, что всем придется очень несладко", - подумала Феодора.
Потом муж первым сделал шаг: он направился к московитке, ступая, как человек, утративший цель. Феодоре даже показалось, что Фома промахнется, готовясь принять ее в объятия.
Но он не промахнулся – и Феодора застыла от ужаса, когда Фома неловко погладил ее по спине. Потом выпустил жену из объятий и ткнулся ей в щеку губами. Ее подбородок кольнула щетина, но было видно, что Фома недавно гладко брился. Нет, он давненько взял себя в руки.
- Здравствуй, - наконец глухо сказал патрикий. Он больше не улыбался, а говорил так, точно его терзает непроходящая боль.
Он не смотрел на жену, но заговорив с московиткой, покосился на нее – с прежним детским, обиженно-доверчивым, выражением: у Феодоры немного посветлело на душе. Она заставила себя улыбнуться.
- Здравствуй, муж мой.
Фома усмехнулся в ответ на такие слова; но детское выражение сохранялось.
Феодора знала эту личину: кого-то она могла обмануть… и в чем-то Фома Нотарас действительно оставался дитятей, который тянулся к ласке обожаемой женщины; но на самом деле греческий патрикий был далек от простоты с кем бы то ни было, в том числе и с обожаемыми женщинами.
Феодора почувствовала, что, несмотря на все перенесенные испытания и пощечины от судьбы, муж остался во многом прежним. И, быть может, именно сейчас измышлял изощренную месть… так же, как Феофано.
Наконец, после очень долгого молчания, Фома нарушил тягостную тишину.
- Твой сын сейчас спит?
"Наш сын", чуть было не поправила Феодора; едва прикусила язык. Это только для женщины все дети – свои!
- Спит, - сказала она. Помедлила. – Хочешь взглянуть на него?
Фома кивнул. Почему-то это пожелание изумило Феодору: но, конечно, она не отказала. Повернулась и пошла, показывая мужу дорогу, - стараясь не коснуться его; впрочем, патрикий и сам избегал ее касаться.
Лев спал так крепко, что Фома смог склониться над колыбелькой, - той самой, где спали еще дети Метаксии, - и внимательно рассмотреть его черты, смелый росчерк черных бровей и густые черные волосы.
- Красивый и крепкий ребенок, - наконец заключил обездоленный муж, взглянув на Феодору. Он улыбнулся. – Тебе повезло.
Феодора отвернулась и расплакалась, закусив губу. Она сдерживалась, чтобы не разбудить сына; впрочем, его было так же нелегко разбудить, как и утихомирить.
Фома наблюдал ее слезы, не приближаясь и не делая попытки успокоить. Когда Феодора перестала плакать, сказал:
- Пойдем отсюда, пусть он спит!
Феодора кивнула. Конечно, Фоме совсем не хотелось оставаться рядом с вражьим сыном.
Когда они покинули детскую, Фома прикрыл за ними обоими дверь.
Феодора хотела уйти, хотя бы отойти подальше, слишком трудно им было стоять рядом, - но муж задержал ее вопросом:
- Скажи мне только одно… ты любила его?
Феодора подняла глаза – муж смотрел ей в лицо так, точно от ее ответа зависела его судьба. Но она устала быть сивиллой и распорядительницей судеб. Московитка прикрыла глаза.
- Да, любила, - шепотом ответила она.
Фома усмехнулся.
- Я так и знал.
Он не бранил ее, даже не сердился – он слишком, слишком хорошо все понимал, этот умнейший человек своего упадочного времени!
Феодора ощутила, как муж взял ее за руку: расслабленной, какой-то безжизненной рукой. Потом отпустил.
- Поэтому у вас получился такой славный сын.
- Наверное, - ответила Феодора. Она старательно смотрела в сторону.
Они долго молчали, она чувствовала на себе жгучий взгляд патрикия, - потом московитка прибавила:
- У тебя тоже прекрасный сын, и стал еще лучше за это время... Ты уже говорил с ним?
- Нет… только любовался издали, - ответил Фома.
Она посмотрела на него, и увидела, что муж улыбнулся: мягкой, раздирающей душу улыбкой.
- Ты права, наш Вард стал еще лучше. Он точно не в меня пошел.
- Не говори так! – воскликнула Феодора; ощущая ужасный стыд потому, что сама думала то же самое.
Фома наконец посмотрел ей прямо в глаза и смог открыто улыбнуться: ей оставалось только гадать, каких усилий над собой это ему стоило.
- Я очень рад, что ты цела - и дома. Метаксия тоже без тебя исчахла.
Феодора кивнула, смаргивая слезы.
Потом Фома прибавил – и это тоже стоило ему огромного усилия:
- Я сделал все, что мог.
- Я знаю, - прошептала Феодора, - конечно, Фома.
Конечно – немногие на его месте сделали бы больше: отыскать ее оказалось почти чудом, и даже посланники, которых отрядили на ее поиски, и те натолкнулись на нее случайно! Если бы не отчаянная храбрость ее воинов, люди Кассандры тоже ее не нашли бы!
Да что говорить – в горах всех их спас младенец! Тот, кто менее всего мог бы чем-нибудь похвалиться!
Но, несмотря на это, Феодора ощущала, что никогда уже не сможет полюбить патрикия Нотараса прежней любовью: как выросшая девочка, которой стало тесно ее платье. Им нужно теперь учиться любить друг друга как-то иначе.
"Господи, только бы мне не привелось опять спать с ним, по крайней мере скоро… хотя он, наверное, первым об этом не напомнит. Он не Валент".
Феодора вздохнула и, шагнув к патрикию, коснулась его плеча: плечо было мягким, словно он давно уже не брал в руки оружия. Но Фома не отдернулся при ее прикосновении, глядя на Феодору теперь с ожиданием – будто она опять могла сообщить ему смысл жизни, придать ей направление…
"Прости, муж мой, не могу… Нет, не так: едва ли я смогу придать твоей жизни то направление, которого ты ждешь".
- Пойдем к Варду вместе… Я с ним поговорю, и сын узнает тебя, вот увидишь, - предложила она.
Фома кивнул: так же, как соглашался посмотреть на сына Валента. Феодора пошла впереди, скрепя сердце.
Разговор со старшим сыном получился – малыш Вард вспомнил своего золотоволосого Феба; и даже искренне обнял отца. Патрикий не ожидал такого порыва, и почувствовал себя еще более виноватым и уязвленным вместе, чем прежде.
Анастасия тоже, казалось, припомнила отца; но она была еще слишком мала, чтобы как следует различать людей, кроме матери, - и не проявила особенной радости при виде Фомы Нотараса, только настороженное любопытство. И это, казалось, принесло ему облегчение.
Когда они с женой снова остались вдвоем, Фома сказал – он немного ожил за эту встречу:
- Я взялся восстанавливать наш дом… и уже много сделал, он почти прежний!
Феодора смотрела на него, не отвечая, - конечно, она понимала это скрытое приглашение; но не спешила его принимать. Московитка скрестила на груди руки. Фома потупился, опустив длинные темно-золотистые ресницы.
- Конечно, ты можешь жить здесь, пока не стесняешь Метаксию. Тебе и твоему ребенку нужно отдохнуть.
Феодора кивнула.
Разумеется, она оставалась женой этого человека: он был самым законным из ее любовников, потому что она все-таки венчалась с ним, пусть и обманным путем, и в храме, давно лишенном святости! И сейчас они оба делали вид, будто Фома Нотарас по-прежнему имеет над нею право мужа, и только из деликатности воздерживается от того, чтобы приказывать.
Но оба понимали, что прежнее его право утрачено давно: и если Феодора скажет нет, Фома ни на чем не настоит.
Но Феодора щадила его гордость – а патрикий ее свободу. Как хорошо, что они хотя бы понимали друг друга не хуже прежнего!
Фома наконец хотел уйти; но тут Феодора задержала его.
- Я тебя всегда любила и помнила, - сказала она: и поняла, что сказала искренне. Фома кивнул.
- Я знаю, дорогая.
Он ушел, склонив золотую голову. Феодора провожала его взглядом – и думала, что союзы всегда угодны Богу, в то время как вражда омерзительна… и женщине, хранящей семью, малую церковь, по своей природе труднее всего разорвать союз любви, как бы тяжел он ни стал. Чтобы хранить любовь, нужно божественное терпение!
Но для женщины это естественно.
И теперь, стало быть, - у Желани Браздовны два мужа, потому что она полюбила и приняла в себя обоих! А скоро думает, если посчастливится, взять себе и третьего!
Феодора перекрестилась.
"Что бы ни было… против воли Бога ничего не случится", - подумала она словами Феофано.
Боже, храни Византию – и Леонарда Флатанелоса: хотя бы до тех пор, пока им не приведется снова встретиться.
Фома Нотарас вскоре уехал – один, как и приехал: отговорившись тем, что его еще ждут неоконченные дела. Конечно, и Феофано, и Феодора понимали, что значат его слова: но тем легче было распрощаться, потому что с этими женщинами не требовалось никаких объяснений.
- Он ведь так и не сказал, желает ли быть отцом Льву, - заметила Феодора хозяйке после отбытия мужа. – А я не спросила…
- Что тут спрашивать! – ответила Феофано.
Сделала презрительный жест – не то в ее сторону, не то в сторону брата.
- Конечно, он не желает! А что не спросила – правильно. У моего братца особенная гордость, ты знаешь, - Феофано улыбнулась. – Он сам ни за что не откажется от ребенка, которого родила его жена; но будет не прочь, если за него откажемся мы с тобой. Фома Нотарас всегда все самые важные вопросы своей жизни предоставлял решать женщинам.
Она вздернула подбородок.
- Все бы так делали!
Феодора рассмеялась вместе с царицей.
- Так что, - серьезно спросила Феофано. – Ты отдашь своего Льва Дионисию? Ты твердо решила?
- Я никогда не чувствовала его как своего, даже тогда, когда носила под сердцем, - тихо ответила московитка. – Он – их, Аммониев… так будет лучше для всех.
Когда приехал Дионисий, он сперва извинился за задержку – говорил, что был в Константинополе. На него накинулись было с расспросами; но военачальник покачал головой.
- Это подождет, - сказал старший брат Валента и младший - Льва. – Сперва я хочу взглянуть на ребенка.
И когда взглянул, остался более чем удовлетворен – и очень взволнован.
- Я готов поклясться, что именно таков был мой старший брат во младенчестве, хотя я не мог видеть его!
Феодора глубоко вздохнула, набираясь храбрости сделать свое предложение.
- Это твой племянник, - начала она.
Дионисий улыбнулся, выручая ее.
- У меня уже есть тот, кого я горд называть племянником, - сказал старший Аммоний. – А этого ребенка был бы горд назвать сыном!
Посмотрев на московитку, он медленно склонил голову.
- С твоего согласия, госпожа Феодора. Я говорил об этом с Кассандрой – она была бы счастлива!
Феодора закраснелась.
- Это я и хочу тебе предложить, господин.
Дом Льва Аммония Дионисий покинул, увозя с собой наконец обретенного сына.
Наступала весна 1453 года.
Re: Ставрос
Глава 92
Второй брат Микитки, Владимир, рос не по дням, а по часам. Он был еще совсем мал и лежал в люльке, но все видели, в какого справного молодца он вырастет. А первый брат русского евнуха, Глеб, уже резво бегал и даже помогал старшим: Евдокия Хрисанфовна, казалось, всех вокруг, кто был в ее власти, - даже самых малых детей, - могла наделить своим разумом и волей: все вокруг нее радостно покорялось ей, расправлялось под ее рукой и шло в рост!
Но даже Евдокия Хрисанфовна не могла творить чудес; и ей подчас приходилось подолгу успокаивать своего мужа – старшего царского дружинника, приходившего к ней со службы день ото дня мрачнее.
- Буря грядет, - говорил Ярослав Игоревич. – Эх, хоть бы уж поскорей! Извелся я весь, матушка!
Евдокия Хрисанфовна гладила его густые русые с проседью кудри, целовала лоб, на котором собирались складки, как рябь, морщившая воды Пропонтиды перед бурей.
- Потерпи, отец, - увещевала боярская ключница: у которой были ключи от стольких русских сердец здесь, на чужбине. – Потерпи… Уж недолго осталось. Господь терпел и нам велел…
- Детей сбереги, - просил Ярослав Игоревич.
- А ты себя не хорони раньше смерти, - строго приказывала Евдокия Хрисанфовна. – Велит долг перед государем – что ж, так тому и быть…
Она прерывалась, утирая невольную слезу.
- Но помни, что здесь не Русь, а первый долг твой – перед Русью! Бог не велел здесь нам всем погибать, как семени в чужой земле! Кто и на что воспитает твоих сыновей, если ты умрешь?
Муж обнимал ее, в свой черед успокаивал:
- Может, еще и выстоим.
Все – и славяне, и итальянцы, и греки, населявшие Город, - предчувствовали гибель; но никто не почувствовал того мига, когда переломилось положение императора: когда султан Мехмед принял роковое решение. Константин, конечно, не советовался со своими воинами: и даже его доверенные слуги, состоявшие при его покоях, не знали государевых дум и вражеских намерений. Все угрозы, которые можно было отвратить или отдалить словами, великий василевс отвращал с помощью своих советников, повидавших мир и стоявших достаточно высоко, чтобы постоянно видеть мир и опасности, грозящие со всех сторон.
Одним из таких советников был Леонард Флатанелос*, теперь, как и до своего изгнания, неразлучный с императором. И он в числе первых принял удар – султан, как и ожидалось, напал с моря.
Еще в начале марта были взяты несколько византийских укреплений на Понте; и тогда же турки раскинули лагерь у самых стен Города и стали готовиться к его осаде. Слухи об этом просочились за городские стены, и людьми овладевал страх и гнев: но никто ничего не знал достоверно, кроме императора и его приближенных.
Все стало известно, - как гром, - второго апреля, когда султан начал осаду. Итальянцы, от которых греки столько натерпелись за годы союзничества, первыми встали на защиту греческой столицы: и городские стены, и берег Золотого Рога защищали итальянские корабли и сухопутные отряды. Все узнали, что подходят главные силы турок, - и ромеи разрушили мосты через оборонительные рвы, и закрыли городские ворота. Император приказал протянуть через Золотой Рог цепь, которая защищала вход в залив; и корабли Константина и союзников вышли в море – отбивать турецкие атаки, пока возможно. Леонард Флатанелос вел греческие корабли – он в первый раз после возвращения надолго отделился от Константина: император сам возглавлял отряды, защищавшие город. Русские этериоты обороняли дворец, но несколько раз Ярослав Игоревич ходил биться с императором: однако пока схватки были небольшие, и крови пролилось немного.
В два дня султан разрушил крепости вне стен Константинополя – и оставшиеся в живых защитники их были посажены на кол на глазах у осажденных цареградцев: те, кто вышел на стены, видели это, а кто схоронился, слышал ужасные крики. Звуки битв и казней долетали и во дворец. Евдокия Хрисанфовна сидела в комнатах, где жили русские и греческие жены императорских этериотов, с маленьким сыном на коленях – и только молилась, закрывая Владимиру уши, пока все не смолкало.
- Крепись, сын, - шептала московитка. – Если укрепимся до последнего часа, Бог нас спасет, на этом свете или на том!
Когда к ней приходил муж, она молча осматривала его, и, не находя ран, так же молча обнимала. Они иногда молились вместе, но почти не разговаривали. О чем тут говорить? День бы простоять, да ночь продержаться!
Одиннадцатого апреля турки начали стрелять по Городу из орудий. Греки, питавшие отвращение к военным новшествам, никогда не пользовались пушками для обороны – и звуки выстрелов казались им ударами судьбы, как будто какой-нибудь титан молотил по Константинополю кулаком.
Корабли итальянцев и Леонарда Флатанелоса, которому было доверено командование императорским судном, защищали цепь Золотого Рога героически и умело: они отбивали турецкие атаки почти весь апрель. Христианские воины рубили руки и головы туркам, взбиравшимся на высокие борта галер со своих низко сидящих кораблей, жгли вражеские суда греческим огнем. Но турки в конце концов сделали обходной маневр: обошли цепь и перетащили часть своих кораблей на берег, соорудив специальные повозки, - около семидесяти судов!
На северном берегу Золотого Рога видели огромную чалму и рыжую бороду молодого султана Мехмеда. Султан наблюдал и командовал, бросая в бой свои передовые отряды – на верную смерть от рук греков, которые дрались с мужеством, превосходящим человеческие возможности: защищая до последнего все, что они любили на земле. Туркам же за такую смерть был обещан рай, полный нескончаемых яств и безотказных красавиц.
Император Константин, несмотря на изматывающие дни, часто не спал ночами; и его евнух тоже не спал. Микитка молча смотрел, как великий василевс меряет шагами опочивальню: тот словно бы не замечал его, сделавшегося тенью императора, - но однажды Константин вдруг посмотрел на слугу и спросил:
- Как имя твоего отца?
Микитка удивленно моргнул, открыл было рот – но Константин улыбнулся и качнул головой. Конечно, он спрашивал не о своем старшем дружиннике!
- Настоящего отца, - сказал император.
- Петр, - сказал Микитка. – Его звали Петр, - повторил он, волнуясь под пристальным царским взором.
Константин кивнул. Потом коснулся своей бороды и сказал в странной задумчивости:
- Что ж, Никита, сын Петра… ты хорошо мне служил! Бери свою мать и своих братьев, и бегите из Города, пока еще есть время!
Он улыбнулся – странной улыбкой, словно бы не вполне сознавая себя. Если бы Феодора могла видеть сейчас великого василевса, он напомнил бы ей мужа: тоже показался бы человеком, потерявшим направление в жизни.
Микитка несколько мгновений не мог осознать, что такое услышал, - а потом упал на колени.
- Государь! Ты прогоняешь нас?..
- Я хочу, чтобы вы спаслись, - ответил Константин. – Чтобы спаслись те, кто еще может.
Он опять улыбнулся, голубые глаза влажно заблестели – не то гневом, не то слезами, не то гневом вместе со слезами.
- Кажется, эта царица Феофано – твой друг? Ты можешь уехать к ней!
Микитка встал: он окончательно понял, что государь не в себе. Теперь, когда Леонард Флатанелос сражался на море, у Микитки не осталось никаких знакомых в Городе, кто мог бы помочь ему, русскому рабу, пусть и вознесенному высоко, снестись с Феофано; не говоря о том, что пробраться через полыхающие земли туда, где она скрывалась, было почти невозможно.
Да и долг – долга с души не снимешь!
- Государь, - сказал евнух. – Воля твоя - а мы от тебя никуда не побежим! Если я побегу, мне будет позор; и моим малым братьям срам, если они вырастут и узнают, в каком деле были замешаны!
Он перекрестился.
- Вот крест – мы с тобой будем до самой смерти! – закончил он с пылающими щеками. - И мать то же скажет, если я ее спрошу!
Император кивнул.
- Я почти не сомневался, что ты так ответишь, - вдруг сказал он. – И я рад, что мне перед смертью довелось узнать русских людей!
Он подумал.
- Что ж, оставайся, Никита, Петров сын. Может быть, вы еще и спасетесь. Султан, я думаю, оставит жить кого-нибудь из защитников… он предлагал мне сохранить жизнь всем мирным жителям в обмен на сдачу Константинополя…
Микитка сжал руки, затаив дыхание: и вдруг ему, на какой-то миг, захотелось, чтобы император принял это предложение. Евнух закусил губу и укрепился – промолчал.
- Я отказал, - в такой же задумчивости проговорил император. – Но Мехмед все же не такой зверь, каким нам представляется: он только хочет стать победителем Города. И потом проявит великодушие к уцелевшим.
Микитка зажмурился и отвернулся. Он не хотел, чтобы Константин увидел его слезы, - но император уже ушел, видимо, понимая чувства своего евнуха и не желая выдать собственных чувств.
Микитка стал на колени и долго молился. Он редко молился в последние годы, после того, как стал пленником и скопцом – и возроптал на Бога за такую судьбу: но когда находил в себе силы это делать, молитва очень помогала.
Весь май турки бомбили стены Константинополя и делали подкопы под стены – а ромеи ночами заваливали рвы и укрепляли стены заново. Микитка вышел на улицы вместе с другими мирными жителями и под звуки выстрелов, в окружении огней помогал уносить и перевязывать раненых. Бой еще не перешел на улицы Города – но звуки битв на море и за стенами достигали ушей со всех сторон.
Когда паракимомен оставался один, он иногда задумывался о том, что происходит, – и бои за Константинополь представлялись ему каким-то затянувшимся окончанием давней, многовековой, войны: гибель Города была ужасной, но, вместе с тем, какой-то обыденной. Не было в ней того геройства, о котором пели древние аэды, - Микитка успел наслушаться хвастливых греческих сказаний о былых временах, и не очень-то им верил.
А теперь и подавно. Эти сказки были нужны, чтобы приукрашивать правду, теперь понимал он. Чтобы делать жизнь достойной жизни… и возносить людей над самими собой.
Двадцать восьмого мая султанские войска пошли на штурм. Ярослав Игоревич простился с женой и детьми и вместе с императором ушел отражать натиск турок: славяне бок о бок с греками встали на стенах и у брешей.
Жестокий бой шел всю ночь – и наконец, через стены Влахернского квартала, османы прорвались на улицы. Кто из жителей нашел в себе мужество – защищался до смерти, и даже некоторые женщины и дети сражались бок о бок с мужчинами, потому что все знали, как турки обращаются с пленниками. Но дух ромеев был сломлен, и многие не сопротивлялись. Турецкие солдаты хватали и вязали мужчин и женщин прямо на улицах, и даже в храмах, где люди ожидали сошествия ангелов, предсказанного в день конца света, - каким всем представлялся день падения Константинополя.
Император Константин, сражавшийся на улицах вместе со своим родичем Феофилом Палеологом, увидел, что творится вокруг, - и сорвал с себя знаки императорского достоинства.
- Город пал, а я еще жив!* – воскликнул он; и, бросившись в бой, как простой воин, был убит.
Тело Константина, среди тел его братьев-греков, долго не могли опознать: и опознали только по царским сапогам с орлами. Султан Мехмед повелел тело последнего императора похоронить с почестями – а голову выставить на ипподроме.
К этому времени никто в Городе уже не сопротивлялся. Многие греческие и итальянские моряки прорвались к своим судам – и, отомкнув цепь Золотого Рога, ушли в море. В числе их был и комес Леонард Флатанелос. Он ушел только после того, как посмотрел в мертвые глаза своего императора, – посмотрел на его золотоволосую голову, красовавшуюся на колу.
Микитка с великим трудом и опасностями, - турки бесчинствовали повсюду, Город был отдан им на разграбление, - сумел вместе с несколькими помощниками, храбрыми греческими монахами, отыскать среди раненых своего названого отца. Ярослав Игоревич потерял много крови, но остался жив. Он сказал Микитке, увидев его, что сражался, пока не потерял сознание.
- Я знаю, что ты не сдался бы, - сказал Микитка: несмотря на то, что знал – мать просила Ярослава Игоревича сберечь себя.
Старшего над русскими этериотами вместе с несколькими живыми его товарищами перенесли обратно во дворец: и султан им не воспрепятствовал. Мехмед Завоеватель дозволял на своей земле христианские обычаи и не трогал христиан – пока они не пытались бунтовать и проповедовать среди правоверных. В двадцать лет с небольшим он стал тем, кем ему мечталось стать с ранней юности, кем мечтали стать столь многие его предки и современники, - Кайзер-и-Рум, победителем Константинополя: и, упившись кровью побежденных, султан успокоился, как довольный зверь.
Его еще не скоро засвербит новый голод – и уцелевшие враги успеют зализать раны, чтобы султану было, с кем подраться снова.
Евдокия Хрисанфовна со старшим сыном увидели, как с купола Святой Софии упал крест, - а конец света не наступил.
- Пришел конец света, - сказала ключница Микитке, когда они – и все уцелевшие греки оправились от такого зрелища. – Такого конца глазами не увидишь… и самого страшного глазами не увидишь.
- Я знаю, мать, - ответил Микитка.
Они долго молчали, все еще не веря, что живы, - что после гибели Царьграда солнце не упало с небес, а земля не разверзлась, чтобы поглотить людей! Потом евнух сказал, вспомнив полубезумные слова Константина:
- А ведь Феофано жива… это не совсем еще конец.
Евдокия Хрисанфовна посмеялась.
- Ну, надейся, - сказала она. – Найдешь ли свою царицу и свою обетованную землю!
Потом посуровела и прибавила, встрепав рукою русые кудри сына:
- Ищи, Микитушка. Пока есть такая земля – мы еще живы.
И Микитка понял, что мать говорит не о Руси – а о том рае, которого давно ищет и Русь, и Византия. Это не турецкий рай, потому что турецкий рай – погибель для души, для многих тысяч поглощенных султаном душ!
- Буду искать, мать, - серьезно сказал Микитка.
* Среди защитников Константинополя историками действительно упоминается некий мореход Флатанелос, командовавший императорским кораблем: я додумала для этого героя имя и биографию.
* Последние сохранившиеся в истории слова Константина XI.
Второй брат Микитки, Владимир, рос не по дням, а по часам. Он был еще совсем мал и лежал в люльке, но все видели, в какого справного молодца он вырастет. А первый брат русского евнуха, Глеб, уже резво бегал и даже помогал старшим: Евдокия Хрисанфовна, казалось, всех вокруг, кто был в ее власти, - даже самых малых детей, - могла наделить своим разумом и волей: все вокруг нее радостно покорялось ей, расправлялось под ее рукой и шло в рост!
Но даже Евдокия Хрисанфовна не могла творить чудес; и ей подчас приходилось подолгу успокаивать своего мужа – старшего царского дружинника, приходившего к ней со службы день ото дня мрачнее.
- Буря грядет, - говорил Ярослав Игоревич. – Эх, хоть бы уж поскорей! Извелся я весь, матушка!
Евдокия Хрисанфовна гладила его густые русые с проседью кудри, целовала лоб, на котором собирались складки, как рябь, морщившая воды Пропонтиды перед бурей.
- Потерпи, отец, - увещевала боярская ключница: у которой были ключи от стольких русских сердец здесь, на чужбине. – Потерпи… Уж недолго осталось. Господь терпел и нам велел…
- Детей сбереги, - просил Ярослав Игоревич.
- А ты себя не хорони раньше смерти, - строго приказывала Евдокия Хрисанфовна. – Велит долг перед государем – что ж, так тому и быть…
Она прерывалась, утирая невольную слезу.
- Но помни, что здесь не Русь, а первый долг твой – перед Русью! Бог не велел здесь нам всем погибать, как семени в чужой земле! Кто и на что воспитает твоих сыновей, если ты умрешь?
Муж обнимал ее, в свой черед успокаивал:
- Может, еще и выстоим.
Все – и славяне, и итальянцы, и греки, населявшие Город, - предчувствовали гибель; но никто не почувствовал того мига, когда переломилось положение императора: когда султан Мехмед принял роковое решение. Константин, конечно, не советовался со своими воинами: и даже его доверенные слуги, состоявшие при его покоях, не знали государевых дум и вражеских намерений. Все угрозы, которые можно было отвратить или отдалить словами, великий василевс отвращал с помощью своих советников, повидавших мир и стоявших достаточно высоко, чтобы постоянно видеть мир и опасности, грозящие со всех сторон.
Одним из таких советников был Леонард Флатанелос*, теперь, как и до своего изгнания, неразлучный с императором. И он в числе первых принял удар – султан, как и ожидалось, напал с моря.
Еще в начале марта были взяты несколько византийских укреплений на Понте; и тогда же турки раскинули лагерь у самых стен Города и стали готовиться к его осаде. Слухи об этом просочились за городские стены, и людьми овладевал страх и гнев: но никто ничего не знал достоверно, кроме императора и его приближенных.
Все стало известно, - как гром, - второго апреля, когда султан начал осаду. Итальянцы, от которых греки столько натерпелись за годы союзничества, первыми встали на защиту греческой столицы: и городские стены, и берег Золотого Рога защищали итальянские корабли и сухопутные отряды. Все узнали, что подходят главные силы турок, - и ромеи разрушили мосты через оборонительные рвы, и закрыли городские ворота. Император приказал протянуть через Золотой Рог цепь, которая защищала вход в залив; и корабли Константина и союзников вышли в море – отбивать турецкие атаки, пока возможно. Леонард Флатанелос вел греческие корабли – он в первый раз после возвращения надолго отделился от Константина: император сам возглавлял отряды, защищавшие город. Русские этериоты обороняли дворец, но несколько раз Ярослав Игоревич ходил биться с императором: однако пока схватки были небольшие, и крови пролилось немного.
В два дня султан разрушил крепости вне стен Константинополя – и оставшиеся в живых защитники их были посажены на кол на глазах у осажденных цареградцев: те, кто вышел на стены, видели это, а кто схоронился, слышал ужасные крики. Звуки битв и казней долетали и во дворец. Евдокия Хрисанфовна сидела в комнатах, где жили русские и греческие жены императорских этериотов, с маленьким сыном на коленях – и только молилась, закрывая Владимиру уши, пока все не смолкало.
- Крепись, сын, - шептала московитка. – Если укрепимся до последнего часа, Бог нас спасет, на этом свете или на том!
Когда к ней приходил муж, она молча осматривала его, и, не находя ран, так же молча обнимала. Они иногда молились вместе, но почти не разговаривали. О чем тут говорить? День бы простоять, да ночь продержаться!
Одиннадцатого апреля турки начали стрелять по Городу из орудий. Греки, питавшие отвращение к военным новшествам, никогда не пользовались пушками для обороны – и звуки выстрелов казались им ударами судьбы, как будто какой-нибудь титан молотил по Константинополю кулаком.
Корабли итальянцев и Леонарда Флатанелоса, которому было доверено командование императорским судном, защищали цепь Золотого Рога героически и умело: они отбивали турецкие атаки почти весь апрель. Христианские воины рубили руки и головы туркам, взбиравшимся на высокие борта галер со своих низко сидящих кораблей, жгли вражеские суда греческим огнем. Но турки в конце концов сделали обходной маневр: обошли цепь и перетащили часть своих кораблей на берег, соорудив специальные повозки, - около семидесяти судов!
На северном берегу Золотого Рога видели огромную чалму и рыжую бороду молодого султана Мехмеда. Султан наблюдал и командовал, бросая в бой свои передовые отряды – на верную смерть от рук греков, которые дрались с мужеством, превосходящим человеческие возможности: защищая до последнего все, что они любили на земле. Туркам же за такую смерть был обещан рай, полный нескончаемых яств и безотказных красавиц.
Император Константин, несмотря на изматывающие дни, часто не спал ночами; и его евнух тоже не спал. Микитка молча смотрел, как великий василевс меряет шагами опочивальню: тот словно бы не замечал его, сделавшегося тенью императора, - но однажды Константин вдруг посмотрел на слугу и спросил:
- Как имя твоего отца?
Микитка удивленно моргнул, открыл было рот – но Константин улыбнулся и качнул головой. Конечно, он спрашивал не о своем старшем дружиннике!
- Настоящего отца, - сказал император.
- Петр, - сказал Микитка. – Его звали Петр, - повторил он, волнуясь под пристальным царским взором.
Константин кивнул. Потом коснулся своей бороды и сказал в странной задумчивости:
- Что ж, Никита, сын Петра… ты хорошо мне служил! Бери свою мать и своих братьев, и бегите из Города, пока еще есть время!
Он улыбнулся – странной улыбкой, словно бы не вполне сознавая себя. Если бы Феодора могла видеть сейчас великого василевса, он напомнил бы ей мужа: тоже показался бы человеком, потерявшим направление в жизни.
Микитка несколько мгновений не мог осознать, что такое услышал, - а потом упал на колени.
- Государь! Ты прогоняешь нас?..
- Я хочу, чтобы вы спаслись, - ответил Константин. – Чтобы спаслись те, кто еще может.
Он опять улыбнулся, голубые глаза влажно заблестели – не то гневом, не то слезами, не то гневом вместе со слезами.
- Кажется, эта царица Феофано – твой друг? Ты можешь уехать к ней!
Микитка встал: он окончательно понял, что государь не в себе. Теперь, когда Леонард Флатанелос сражался на море, у Микитки не осталось никаких знакомых в Городе, кто мог бы помочь ему, русскому рабу, пусть и вознесенному высоко, снестись с Феофано; не говоря о том, что пробраться через полыхающие земли туда, где она скрывалась, было почти невозможно.
Да и долг – долга с души не снимешь!
- Государь, - сказал евнух. – Воля твоя - а мы от тебя никуда не побежим! Если я побегу, мне будет позор; и моим малым братьям срам, если они вырастут и узнают, в каком деле были замешаны!
Он перекрестился.
- Вот крест – мы с тобой будем до самой смерти! – закончил он с пылающими щеками. - И мать то же скажет, если я ее спрошу!
Император кивнул.
- Я почти не сомневался, что ты так ответишь, - вдруг сказал он. – И я рад, что мне перед смертью довелось узнать русских людей!
Он подумал.
- Что ж, оставайся, Никита, Петров сын. Может быть, вы еще и спасетесь. Султан, я думаю, оставит жить кого-нибудь из защитников… он предлагал мне сохранить жизнь всем мирным жителям в обмен на сдачу Константинополя…
Микитка сжал руки, затаив дыхание: и вдруг ему, на какой-то миг, захотелось, чтобы император принял это предложение. Евнух закусил губу и укрепился – промолчал.
- Я отказал, - в такой же задумчивости проговорил император. – Но Мехмед все же не такой зверь, каким нам представляется: он только хочет стать победителем Города. И потом проявит великодушие к уцелевшим.
Микитка зажмурился и отвернулся. Он не хотел, чтобы Константин увидел его слезы, - но император уже ушел, видимо, понимая чувства своего евнуха и не желая выдать собственных чувств.
Микитка стал на колени и долго молился. Он редко молился в последние годы, после того, как стал пленником и скопцом – и возроптал на Бога за такую судьбу: но когда находил в себе силы это делать, молитва очень помогала.
Весь май турки бомбили стены Константинополя и делали подкопы под стены – а ромеи ночами заваливали рвы и укрепляли стены заново. Микитка вышел на улицы вместе с другими мирными жителями и под звуки выстрелов, в окружении огней помогал уносить и перевязывать раненых. Бой еще не перешел на улицы Города – но звуки битв на море и за стенами достигали ушей со всех сторон.
Когда паракимомен оставался один, он иногда задумывался о том, что происходит, – и бои за Константинополь представлялись ему каким-то затянувшимся окончанием давней, многовековой, войны: гибель Города была ужасной, но, вместе с тем, какой-то обыденной. Не было в ней того геройства, о котором пели древние аэды, - Микитка успел наслушаться хвастливых греческих сказаний о былых временах, и не очень-то им верил.
А теперь и подавно. Эти сказки были нужны, чтобы приукрашивать правду, теперь понимал он. Чтобы делать жизнь достойной жизни… и возносить людей над самими собой.
Двадцать восьмого мая султанские войска пошли на штурм. Ярослав Игоревич простился с женой и детьми и вместе с императором ушел отражать натиск турок: славяне бок о бок с греками встали на стенах и у брешей.
Жестокий бой шел всю ночь – и наконец, через стены Влахернского квартала, османы прорвались на улицы. Кто из жителей нашел в себе мужество – защищался до смерти, и даже некоторые женщины и дети сражались бок о бок с мужчинами, потому что все знали, как турки обращаются с пленниками. Но дух ромеев был сломлен, и многие не сопротивлялись. Турецкие солдаты хватали и вязали мужчин и женщин прямо на улицах, и даже в храмах, где люди ожидали сошествия ангелов, предсказанного в день конца света, - каким всем представлялся день падения Константинополя.
Император Константин, сражавшийся на улицах вместе со своим родичем Феофилом Палеологом, увидел, что творится вокруг, - и сорвал с себя знаки императорского достоинства.
- Город пал, а я еще жив!* – воскликнул он; и, бросившись в бой, как простой воин, был убит.
Тело Константина, среди тел его братьев-греков, долго не могли опознать: и опознали только по царским сапогам с орлами. Султан Мехмед повелел тело последнего императора похоронить с почестями – а голову выставить на ипподроме.
К этому времени никто в Городе уже не сопротивлялся. Многие греческие и итальянские моряки прорвались к своим судам – и, отомкнув цепь Золотого Рога, ушли в море. В числе их был и комес Леонард Флатанелос. Он ушел только после того, как посмотрел в мертвые глаза своего императора, – посмотрел на его золотоволосую голову, красовавшуюся на колу.
Микитка с великим трудом и опасностями, - турки бесчинствовали повсюду, Город был отдан им на разграбление, - сумел вместе с несколькими помощниками, храбрыми греческими монахами, отыскать среди раненых своего названого отца. Ярослав Игоревич потерял много крови, но остался жив. Он сказал Микитке, увидев его, что сражался, пока не потерял сознание.
- Я знаю, что ты не сдался бы, - сказал Микитка: несмотря на то, что знал – мать просила Ярослава Игоревича сберечь себя.
Старшего над русскими этериотами вместе с несколькими живыми его товарищами перенесли обратно во дворец: и султан им не воспрепятствовал. Мехмед Завоеватель дозволял на своей земле христианские обычаи и не трогал христиан – пока они не пытались бунтовать и проповедовать среди правоверных. В двадцать лет с небольшим он стал тем, кем ему мечталось стать с ранней юности, кем мечтали стать столь многие его предки и современники, - Кайзер-и-Рум, победителем Константинополя: и, упившись кровью побежденных, султан успокоился, как довольный зверь.
Его еще не скоро засвербит новый голод – и уцелевшие враги успеют зализать раны, чтобы султану было, с кем подраться снова.
Евдокия Хрисанфовна со старшим сыном увидели, как с купола Святой Софии упал крест, - а конец света не наступил.
- Пришел конец света, - сказала ключница Микитке, когда они – и все уцелевшие греки оправились от такого зрелища. – Такого конца глазами не увидишь… и самого страшного глазами не увидишь.
- Я знаю, мать, - ответил Микитка.
Они долго молчали, все еще не веря, что живы, - что после гибели Царьграда солнце не упало с небес, а земля не разверзлась, чтобы поглотить людей! Потом евнух сказал, вспомнив полубезумные слова Константина:
- А ведь Феофано жива… это не совсем еще конец.
Евдокия Хрисанфовна посмеялась.
- Ну, надейся, - сказала она. – Найдешь ли свою царицу и свою обетованную землю!
Потом посуровела и прибавила, встрепав рукою русые кудри сына:
- Ищи, Микитушка. Пока есть такая земля – мы еще живы.
И Микитка понял, что мать говорит не о Руси – а о том рае, которого давно ищет и Русь, и Византия. Это не турецкий рай, потому что турецкий рай – погибель для души, для многих тысяч поглощенных султаном душ!
- Буду искать, мать, - серьезно сказал Микитка.
* Среди защитников Константинополя историками действительно упоминается некий мореход Флатанелос, командовавший императорским кораблем: я додумала для этого героя имя и биографию.
* Последние сохранившиеся в истории слова Константина XI.
Re: Ставрос
Глава 93
Валент Аммоний тоже не погиб во время осады.
Его не было в Константинополе в решительные дни – и прежде того, казалось, судьба его хранила: черный хилиарх видел в Городе брата Дионисия, но не столкнулся с ним.
Валент знал, что Дионисий, увидев его, мог бы убить его без всяких объяснений – они давно все сказали друг другу; но они разминулись, и Дионисий даже не подозревал, насколько близко. Валент видел, что старший брат кого-то высматривает, - уж не его ли?
"Нет, брат, - думал младший Аммоний. – Я бываю безрассуден, но расчета во мне не меньше! Так же, как и в тебе!"
Ему вообще необыкновенно везло посреди всеобщего отчаяния – среди стенаний и проклятий тех, кто до последнего не хотел склониться перед султаном, но понимал, что это неизбежно. Валент же под гнетом рока принял трудное, но окончательное решение: и, приняв его, как сильный человек, перестал разоряться на самобичевание.
И он знал, что те, кто вовремя примет новый порядок, будут вознаграждены. Это достойно, знал Валент, - уметь смириться перед врагом, когда другого выхода нет; чтобы, быть может, позже подмять и подстроить врага под себя! Самую сладкую, и законную, свою награду он получил… но ведь будут и другие.
Валент улыбался. Малышка Феодора, царевна тавроскифов, конечно, сейчас артачится, не желая смириться с тем, что будет у своего господина не одна; но потом уступит. Пояс Ипполиты по-прежнему ей не к лицу – и чем дальше, тем больше она будет покорна мужской воле: как тому и следует быть.
Ну а если эти безумцы, ее греки, все-таки подвигнут – а вернее сказать, принудят – свою госпожу к борьбе, ей придется лишиться своих воинов: Валент нисколько не боялся, что его пленники удерут. Для этого нужно чудо! А чудес он в своей долгой жизни он не видел ни разу – ни от Христа, ни от Аллаха, ни от каких-нибудь других богов.
И он возвращался в Каппадокию в необыкновенно радостном расположении духа: предчувствовал новую игру со своей прекрасной московиткой, и ему делалось еще лучше. Он мудро поступает, что уезжает - дает ей погулять на поводке, прежде чем опять вернуть в клетку! Если он совсем уничтожит в ней волю, будет скучно… все равно ее воля ничего не сможет поделать против воли хозяина!
"Я тебя люблю, моя царевна, - улыбаясь белозубо, подумал Валент, завидев свой дом в горах. – И ты поймешь, что у настоящего мужчины любви хватит на много женщин!"
Необыкновенным удовольствием будет заставить Феодору Константинопольскую смириться с этим. Почему-то осуществить такое желание бы для Валента почти так же сладостно, как победить Феофано, - хотя, конечно, его малышка не могла тягаться с этой безумной лакедемонянкой!
Он уже подъезжал к дому, когда завидел бегущую навстречу женскую фигуру: македонец улыбнулся изумленно - Валент почти не ожидал, что Феодора выбежит встречать его… но тут острый взгляд военачальника распознал, что это не жена.
Он осадил коня, так что его задние ноги врылись в рассыпчатую сухую землю, а из-под копыт брызнули камешки. Какие здесь ненадежные дороги!
- София? – спросил Валент, гневно и растерянно глядя сверху вниз на старшую дочь. – Что случилось?
Он и от дочерей не ждал такого теплого приема; и подавил свою досаду при мысли о домашних, хотя нелюбовь дочерей мало его волновала – а с желаниями дочерей военачальник никогда особенно не считался и не носился.
София схватила его коня под уздцы. Она была в огромном волнении; уже то, что она была так непочтительна, дало македонцу понять, что случилось какое-то необыкновенное происшествие.
- Говори, в чем дело! – рявкнул Валент. Он начал подозревать… нет, великий Аллах, такого просто не могло быть…
- Отец, - отдышавшись и набравшись храбрости, ответила девушка. – Твоя жена… и твой сын… они сбежали!
Она взвизгнула и шарахнулась прочь, припадая к земле: Валент ударил коня плетью, черные глаза осатанели. София могла бы погибнуть под копытами разъяренного животного; а отец едва бы заметил.
- Как сбежали? – рявкнул Валент, соскакивая с лошади. Он поднял девушку с земли за шкирку, как собачонку, и встряхнул. – Говори, или я сверну тебе шею!..
- Мы с сестрой ни при чем, отец! – всхлипнула София; она отвернула голову и зажмурилась, ожидая удара. Валент отпустил ее, и девушка повалилась обратно, плача и роя землю ногтями.
Схватив горсть земли, дочь посыпала ею склоненную черноволосую голову, причесанную по-гречески. – Случился обвал, - всхлипывая, пробормотала девушка. – Твои воины бросились за ними в погоню, но их очень много погибло, вместе с собаками и лошадьми! Горы разгневались!
- Я тебе покажу горы!.. – Валент шагнул было к Софии, замахиваясь плеткой, как на лошадь, но потом вдруг успокоился.
Нет, не годится это – вымещать ярость на девчонке: она, конечно, и вправду ни при чем! Валент хлестнул себя по высокому сапогу и, отойдя в сторону, сел на камень.
Тот самый, на котором Феодора писала свои записки.
Валент почему-то стал почти спокоен – как будто опять ощутил теплое покровительство Бога, как бы его теперь ни называли. Сбежали – случилось чудо? Ну что ж! Валент знает, куда они могут бежать, - ему ведомы все пути, открытые в империи русской рабыне! Она могла бежать только к своей любовнице; и, конечно, ее ничтожество-муж не посмеет даже подступиться к этим двум женщинам. Тем более теперь – когда Валент утвердил свою власть над московиткой, когда с ней неотлучно его сын… Феодора будет жить с любовницей до тех пор, пока за ней не приедет хозяин. А тогда сопротивление будет бесполезно, и все они это понимают...
Валент поднял тяжелый взгляд – и увидел вдруг, что дочь уже сбежала. Пожалуй, ее и вправду не помешает выпороть… хотя бы для острастки, пусть она и не виновата….
Валент встал и, крупно шагая к дому, на ходу принялся обдумывать план действий. План созрел быстро и вышел немудрящим: с этими несчастными храбрецами и нечего было мудрить. Валент уже снисходительно усмехался, размышляя о своей бедной жене, - сейчас она, конечно, думает, что в безопасности; но не успеет опомниться, как дом обложат лучники, и ее героических защитников перестреляют раньше, чем они хотя бы пикнут. Лук – великолепное изобретение человека и могучее оружие турок: и сравнения быть не может с неуклюжими и громкими огнестрелами, которыми начали пользоваться в Европе!
Валент войдет в комнату, где Феодора будет прятаться с его сыном на руках, - и спросит с улыбкой: "Стоило ли оно того, маленькая царевна? Зачем ты убила стольких храбрых мужчин?"
Потом он сунет ее в мешок и увезет, куда пожелает; и будет делать с ней все, что пожелает.
Войдя в дом, Валент приказал приготовить себе ванну – об этом взялись хлопотать дочери; пока они прислуживали отцу, его план окончательно созрел. Удача благоволит смелым – так, кажется, говорил римлянин Вергилий, чьи стихи ему читала прекрасная московитка?
Что ж, скоро она на своем опыте убедится в справедливости этих слов: и поймет, кто более всего удачлив.
Валент отдыхал с дороги два дня – теперь лишний день ничего не решал: конец пути у его московитки один.
Потом он начал собираться в погоню. Ему уже доложили, что и вправду обвал, который произошел два месяца назад, погубил много людей: Валент очень сожалел… но он знал, что такие вещи случаются. И его азиатские воины тоже знали: никто не роптал на него. Это были испытанные люди – рабски верные своим смешным племенным обычаям, они и ему оставались рабски верны! Как хорошо благородному ромею повелевать дикарями – главное иметь первоначальную храбрость, чтобы приступить к делам с ними, и найти, чем подкупить их сердце. Кто-то был падок на золото, кто-то - на земли; иным и вовсе было достаточно храбрых мужских дел под началом у такого господина, как Валент Аммоний. А еще часть, и очень большая, подчинялась ему из суеверных чувств: Валент знал, как легко дикие люди верят самым нелепым байкам и придумывают себе земных кумиров, не находя их на небесах.
И греческие цари, и просвещенный султан Мехмед очаровывали и покоряли себе дикарей точно так же, как он.
Валент спустился с гор и дальше пошел почти тем же путем, каким ехала Феодора со своими спасителями: звериное чутье безошибочно вело его и его воинов. Он останавливался в тех же деревнях и расспрашивал тех же людей, что и московитка, - и кто-то отмалчивался, а кто-то и отвечал.
Злакам, которых не трогают бури, вырывающие с корнем могучие деревья, нет дела до этих бурь. Им опаснее другие, мелкие и каждодневные, ненастья. И Валент скоро узнал все, что крестьяне могли рассказать ему о путниках, проезжавших через предгорья два с лишним месяца назад.
Теперь он не сомневался, что его русская жена направлялась в дом Льва – туда, где сейчас жила Метаксия Калокир. Что ж, вдова его брата горько пожалеет, что не дала Валенту довершить свою месть. Разве не этому учили древние поэмы, которые она так любила со своей московиткой, - что месть пылает тем ярче, чем больше ей препятствуют? Сейчас женщины увидят, что это не только слова.
А за царский титул, коль скоро женщина притязает на него, она должна биться неустанно, подобно мужчине.
Валент скакал, радуясь себе и своей удаче: с каждым часом он все ближе чувствовал биение сердец своих жертв. Несчастные! Пожалуй, он даже не убьет Метаксию, хотя она десять раз это заслужила: он оставит ее жить, лишив всего, что она любит. Хотя ему убивать ее даже не нужно – слишком много кругом опасностей для женщины, которая долгие годы вела себя так бесстыдно; и теперь, наконец, настало время за это расплатиться сполна…
Он и его люди были не дальше, чем в двух днях пути от дома Льва Аммония, когда случилось непредвиденное.
Валент всегда был очень крепок и здоров – но проснувшись однажды утром после привала, он вдруг понял, что не может встать, как будто сверху давила могильная плита. На него напал жар, потом озноб; ломило суставы и кости. Может быть, лихорадка вползла в его члены из земли?
К нему заглядывали в палатку, тревожились – но никто из его людей не знал, что за болезнь напала на предводителя. Эти дикари почти не умели лечиться, предоставляя заболевшего судьбе: не лучше европейцев. Валент сейчас ужасно жалел, что далек от своего домашнего врача – и даже константинопольских лекарей, сохранивших искусство своих предков. Он слышал также, что и турецкие врачи, а особенно персидские, очень умелы!
Сердясь на общую беспомощность, Валент наконец прогнал от себя всех: его оставили в покое и те воины, что прельстились наживой и громкими делами, и те, кто нашел в нем кумира. Последние – и подавно: ведь бог не может хворать!
Валент почему-то почти не боялся умереть – хотя понимал, что болен серьезно. Слабость ужасала его куда больше: вскоре его начала мучить жажда, а рядом с ним не оставили никакой посудины, чтобы напиться. Встать же и проделать путь в угол, где стоял кувшин с водой, оказалось неимоверно трудно.
Валент напился из горсти, омочил горящий лоб, виски и лег обратно на кошму. Он погрузился в сон, из которого его то и дело вырывали необыкновенно резкие звуки снаружи: никто не думал о том, чтобы не шуметь, - а может, то играл шутки его воспаленный мозг.
Он закрыл глаза и придремал – совсем недолго; но когда очнулся, все снаружи волшебным образом стихло. Валент ощутил легкость в теле и ясность в голове: но когда хотел встать, обнаружил, что по-прежнему не может, словно невидимые цепи приковали его к одру болезни.
Шевельнулся полог, загораживавший вход в шатер; а потом внутрь ступила женщина.
Откуда здесь женщины?.. Валент хотел вскочить, но только дрогнул и застонал от тщетности усилий: а когда он разглядел вошедшую, вдруг понял, что из всех женщин здесь может быть она и только она.
Феофано была под вышитым покрывалом – и улыбалась под своим покрывалом. Она подняла его обеими руками, и открылось ее лицо, жирно подведенные черным огромные глаза и карминно-красный крупный рот. В черных волосах, высоко подобранных, притаились золотые змеи с рубиновыми глазами – диадема, которую Валент когда-то видел на ней…
Эта женщина вызывала в нем вожделение и ужас сразу: теперь, когда он не мог шевельнуться, только глядеть на нее.
- Славный Валент, - сказала Феофано, направляясь к его одру: она продолжала улыбаться. – Храбрый Валент! Ты всегда верил в то, что прав сильнейший, - но теперь ты так слаб… И кто же прав в эту минуту, когда мы с тобой говорим?
- Это пройдет, - прошептал Валент. – Я очень скоро верну себе силу, а ты узнаешь свое место!
Феофано посмеялась.
- У тебя ничего не выйдет, македонец, - сказала она. – Поворачивай назад.
Валент усмехнулся: оскорбление вмиг заставило его забыть слабость и страх.
- Еще чего!
Но тут же страх вернулся, с удвоенной силой. Такого Валент не ждал: широко раскрыв глаза, он увидел, как из-под золотых и пурпурных одежд Феофано выставилась блестящая голова змеи. Кобра высунула язык и тут же спрятала.
Валент судорожно вздохнул: едва веря своим глазам, он увидел, как Феофано разоблачается, разматывая свой широкий пурпурный с золотой полосой гиматий, под которым оказался серебристый хитон с рисунком из черных лилий. Змея обвила смуглую высокую шею царицы, подобно ожерелью, которое удивительно ей шло. Феофано подняла руки к застежкам на плечах.
- Скажи – ты долго мечтал об этом, мой славный Валент? – спросила она, неотрывно глядя военачальнику в лицо.
Несомненно, он долго мечтал об этом: но не так! Он мечтал впечатать Феофано лицом в стену, заглушая ее крики; а еще лучше – поставить на колени…
Лакедемонянка обнажилась совсем – у нее было прекрасное тело, хотя и слишком твердое, мускулистое для женщины. Ожерелье-змея куда-то ускользнуло – на царице ничего не осталось, кроме браслетов, обвивавших руки выше локтей. Но когда она протянула руки к Валенту, браслеты ожили… и уже две змеи, шипя, поползли к Валенту на грудь: он ощутил холодную скользкость их гибких тел, и закрыл глаза. Желание его никуда не делось – и, вместе с ужасом, только возросло: и македонцу стало очень стыдно. Он вдруг понял, что совершенно наг, и Феофано глядит на его чресла. И опять он испугался – не смерти, а того, что эта слабость навсегда…
А потом он ощутил на себе ее тяжесть: Феофано оседлала его, сдавив коленями его бедра. Валент простонал сквозь зубы: он совсем забыл, как сильны ее ноги, хотя столько раз видел ее посадку на коне!
- Я говорила тебе, как люблю таких красивых и сильных мужчин? – прошептала василисса ему на ухо.
Холодные змеи ползали по его груди, плечам, как ее горячие руки. Валент ощутил, что истаивает в блаженстве: он откинул голову назад, уже не сдерживая стонов. Он ощущал себя всесильным, как всегда, когда обладал женщиной; но, вместе с тем, сладко слабел, точно замерзающий или умирающий от потери крови. И это всесилие – было не его всесилие, а Феофано: она тоже неистово наслаждалась сейчас, но не как женщина, а как мужчина! Не своей покорностью, а силой, которую императрица забирала у Валента!
У него потемнело в глазах, когда ее колени сжались как тиски, точно она укрощала слишком норовистого жеребца. Но в нем более не осталось ни норова, ни собственной мысли.
Феофано встала с него, а для Валента все вокруг застил мрак. Змеи свернулись у него на груди, в ногах, а он не мог шевельнуть и пальцем.
- Что же ты медлишь? – спросил он, едва ворочая языком. – Убей!..
Он услышал ее смешок.
- Нет, тебя никто не убьет. Это было бы слишком просто! И уж никак не по твоим грехам!
Валент попытался улыбнуться своей любовнице, улыбнуться такой безумной кончине.
- Я всегда восхищался тобой, Феофано, - вдруг признался он. – Тем, что ты не такая, как другие женщины! Для них естественно подчиняться, а не властвовать… быть желанными, а не желать, и представлять мужчин, а не себя! В этом женское счастье, царица!
Он с неожиданной угрюмостью закончил:
- Ты и сама прекрасно знаешь это – и напрасно бултыхаешься, все равно утонешь вместе с ними!
Феофано долго молчала – она по-прежнему была обнажена, но почему-то ее тело перестало волновать Валента. Вернее сказать: он не ощущал желания уже так долго после соития, что даже встревожился… хотя раньше был неутомим – и воздерживался уже много дней!
- Ты хорошо понимаешь женщин, - наконец услышал он голос царицы: змеи куда-то пропали. – Но недостаточно хорошо. А недостаточное знание порою равносильно поражению, военачальник.
Феофано отвернулась и набросила на плечи и голову свой гиматий, скрывшись от него совсем.
- Ты прав, таких женщин, как ты сказал, много… но я тоже женщина. И я научу желать тех моих сестер, кто этого не умеет; и дам свою силу тем моим сестрам, кому ее недостает! Мою девочку я наделю с избытком, будь покоен!
Она вдруг опять повернулась к нему и улыбнулась: улыбнулись и ее губы, и ее огромные глаза.
- А свою силу я возьму у тебя, хилиарх. Ты не находишь, что это справедливо?
Тут Валент все понял; он чуть не закричал, но мочи хватило только на то, чтобы воскликнуть едва слышно:
- Лучше отдай меня своим змеям!
Но царица уже исчезла, и ее слуги тоже.
Черный хилиарх беззвучно заплакал. А потом погрузился в сон: и спал очень долго, без сновидений.
Когда Валент открыл глаза, слабость уменьшилась, и он смог даже встать: весь мокрый от пота, и действительно обнаженный - наверное, разделся в жару. Вспоминая свой сон, македонец содрогался. Больше всего на свете он боялся, что неведомая хворь в самом деле могла лишить его мужской силы: но, к счастью, это оказалось не так.
Еще день – и можно будет продолжать путь. Мало ли что могло ему привидеться на больную голову!
Но Валент вдруг понял, что не может.
Он, никогда не боявшийся ничего, не верил ни в какие возмездия – жизнь всегда показывала Валенту, что получают по так называемым заслугам только слабые и трусы. Разве Александр Великий, Ганнибал, Помпей… и султан Мехмед Фатих не утопили мир в крови? Но кто посмеет теперь хотя бы возвысить голос против них?
Но когда он покинул палатку и его люди увидели его живым и здоровым, Валент понял, что не может приказать им следовать дальше: ехать захватывать патрикию Метаксию Калокир – божественную Феофано, вместе с ее московской подругой! Конечно, он боялся не смерти от рук женщин: он суеверно боялся того, что куда хуже смерти.
"Потом, - наконец решил македонец, когда в борьбе с самим собой одолела слабость. – Не всегда же моя малышка-жена будет с ней! Попадется и одна! И моего сына я у них непременно достану!"
Валент улыбнулся: он по-прежнему не сомневался – его от него не уйдет.
Он повернул и поехал назад в горы: когда наступит час, он предложит свою силу султану Мехмеду, как сделали уже многие аристократы. И султан, конечно, не откажется.
В ночь на двадцать девятое мая Феофано и Феодора спали в одной постели, обнявшись, – как будто обе услышали, что наступает конец мира и начало нового мира. А утром Феодора призналась:
- Мне приснилось, что с Софии упал крест…
Феофано, улыбавшаяся ей со сна, перестала улыбаться на несколько мгновений. А потом вдруг опять просияла и потрепала подругу по плечу:
- А мне приснился Валент, представь себе! Он был очень болен и звал на помощь – и никто его не слышал, кроме меня!
Феодора изумилась, встревожилась.
- И ты ему помогла?
- Ну конечно, - сказала царица.
Валент Аммоний тоже не погиб во время осады.
Его не было в Константинополе в решительные дни – и прежде того, казалось, судьба его хранила: черный хилиарх видел в Городе брата Дионисия, но не столкнулся с ним.
Валент знал, что Дионисий, увидев его, мог бы убить его без всяких объяснений – они давно все сказали друг другу; но они разминулись, и Дионисий даже не подозревал, насколько близко. Валент видел, что старший брат кого-то высматривает, - уж не его ли?
"Нет, брат, - думал младший Аммоний. – Я бываю безрассуден, но расчета во мне не меньше! Так же, как и в тебе!"
Ему вообще необыкновенно везло посреди всеобщего отчаяния – среди стенаний и проклятий тех, кто до последнего не хотел склониться перед султаном, но понимал, что это неизбежно. Валент же под гнетом рока принял трудное, но окончательное решение: и, приняв его, как сильный человек, перестал разоряться на самобичевание.
И он знал, что те, кто вовремя примет новый порядок, будут вознаграждены. Это достойно, знал Валент, - уметь смириться перед врагом, когда другого выхода нет; чтобы, быть может, позже подмять и подстроить врага под себя! Самую сладкую, и законную, свою награду он получил… но ведь будут и другие.
Валент улыбался. Малышка Феодора, царевна тавроскифов, конечно, сейчас артачится, не желая смириться с тем, что будет у своего господина не одна; но потом уступит. Пояс Ипполиты по-прежнему ей не к лицу – и чем дальше, тем больше она будет покорна мужской воле: как тому и следует быть.
Ну а если эти безумцы, ее греки, все-таки подвигнут – а вернее сказать, принудят – свою госпожу к борьбе, ей придется лишиться своих воинов: Валент нисколько не боялся, что его пленники удерут. Для этого нужно чудо! А чудес он в своей долгой жизни он не видел ни разу – ни от Христа, ни от Аллаха, ни от каких-нибудь других богов.
И он возвращался в Каппадокию в необыкновенно радостном расположении духа: предчувствовал новую игру со своей прекрасной московиткой, и ему делалось еще лучше. Он мудро поступает, что уезжает - дает ей погулять на поводке, прежде чем опять вернуть в клетку! Если он совсем уничтожит в ней волю, будет скучно… все равно ее воля ничего не сможет поделать против воли хозяина!
"Я тебя люблю, моя царевна, - улыбаясь белозубо, подумал Валент, завидев свой дом в горах. – И ты поймешь, что у настоящего мужчины любви хватит на много женщин!"
Необыкновенным удовольствием будет заставить Феодору Константинопольскую смириться с этим. Почему-то осуществить такое желание бы для Валента почти так же сладостно, как победить Феофано, - хотя, конечно, его малышка не могла тягаться с этой безумной лакедемонянкой!
Он уже подъезжал к дому, когда завидел бегущую навстречу женскую фигуру: македонец улыбнулся изумленно - Валент почти не ожидал, что Феодора выбежит встречать его… но тут острый взгляд военачальника распознал, что это не жена.
Он осадил коня, так что его задние ноги врылись в рассыпчатую сухую землю, а из-под копыт брызнули камешки. Какие здесь ненадежные дороги!
- София? – спросил Валент, гневно и растерянно глядя сверху вниз на старшую дочь. – Что случилось?
Он и от дочерей не ждал такого теплого приема; и подавил свою досаду при мысли о домашних, хотя нелюбовь дочерей мало его волновала – а с желаниями дочерей военачальник никогда особенно не считался и не носился.
София схватила его коня под уздцы. Она была в огромном волнении; уже то, что она была так непочтительна, дало македонцу понять, что случилось какое-то необыкновенное происшествие.
- Говори, в чем дело! – рявкнул Валент. Он начал подозревать… нет, великий Аллах, такого просто не могло быть…
- Отец, - отдышавшись и набравшись храбрости, ответила девушка. – Твоя жена… и твой сын… они сбежали!
Она взвизгнула и шарахнулась прочь, припадая к земле: Валент ударил коня плетью, черные глаза осатанели. София могла бы погибнуть под копытами разъяренного животного; а отец едва бы заметил.
- Как сбежали? – рявкнул Валент, соскакивая с лошади. Он поднял девушку с земли за шкирку, как собачонку, и встряхнул. – Говори, или я сверну тебе шею!..
- Мы с сестрой ни при чем, отец! – всхлипнула София; она отвернула голову и зажмурилась, ожидая удара. Валент отпустил ее, и девушка повалилась обратно, плача и роя землю ногтями.
Схватив горсть земли, дочь посыпала ею склоненную черноволосую голову, причесанную по-гречески. – Случился обвал, - всхлипывая, пробормотала девушка. – Твои воины бросились за ними в погоню, но их очень много погибло, вместе с собаками и лошадьми! Горы разгневались!
- Я тебе покажу горы!.. – Валент шагнул было к Софии, замахиваясь плеткой, как на лошадь, но потом вдруг успокоился.
Нет, не годится это – вымещать ярость на девчонке: она, конечно, и вправду ни при чем! Валент хлестнул себя по высокому сапогу и, отойдя в сторону, сел на камень.
Тот самый, на котором Феодора писала свои записки.
Валент почему-то стал почти спокоен – как будто опять ощутил теплое покровительство Бога, как бы его теперь ни называли. Сбежали – случилось чудо? Ну что ж! Валент знает, куда они могут бежать, - ему ведомы все пути, открытые в империи русской рабыне! Она могла бежать только к своей любовнице; и, конечно, ее ничтожество-муж не посмеет даже подступиться к этим двум женщинам. Тем более теперь – когда Валент утвердил свою власть над московиткой, когда с ней неотлучно его сын… Феодора будет жить с любовницей до тех пор, пока за ней не приедет хозяин. А тогда сопротивление будет бесполезно, и все они это понимают...
Валент поднял тяжелый взгляд – и увидел вдруг, что дочь уже сбежала. Пожалуй, ее и вправду не помешает выпороть… хотя бы для острастки, пусть она и не виновата….
Валент встал и, крупно шагая к дому, на ходу принялся обдумывать план действий. План созрел быстро и вышел немудрящим: с этими несчастными храбрецами и нечего было мудрить. Валент уже снисходительно усмехался, размышляя о своей бедной жене, - сейчас она, конечно, думает, что в безопасности; но не успеет опомниться, как дом обложат лучники, и ее героических защитников перестреляют раньше, чем они хотя бы пикнут. Лук – великолепное изобретение человека и могучее оружие турок: и сравнения быть не может с неуклюжими и громкими огнестрелами, которыми начали пользоваться в Европе!
Валент войдет в комнату, где Феодора будет прятаться с его сыном на руках, - и спросит с улыбкой: "Стоило ли оно того, маленькая царевна? Зачем ты убила стольких храбрых мужчин?"
Потом он сунет ее в мешок и увезет, куда пожелает; и будет делать с ней все, что пожелает.
Войдя в дом, Валент приказал приготовить себе ванну – об этом взялись хлопотать дочери; пока они прислуживали отцу, его план окончательно созрел. Удача благоволит смелым – так, кажется, говорил римлянин Вергилий, чьи стихи ему читала прекрасная московитка?
Что ж, скоро она на своем опыте убедится в справедливости этих слов: и поймет, кто более всего удачлив.
Валент отдыхал с дороги два дня – теперь лишний день ничего не решал: конец пути у его московитки один.
Потом он начал собираться в погоню. Ему уже доложили, что и вправду обвал, который произошел два месяца назад, погубил много людей: Валент очень сожалел… но он знал, что такие вещи случаются. И его азиатские воины тоже знали: никто не роптал на него. Это были испытанные люди – рабски верные своим смешным племенным обычаям, они и ему оставались рабски верны! Как хорошо благородному ромею повелевать дикарями – главное иметь первоначальную храбрость, чтобы приступить к делам с ними, и найти, чем подкупить их сердце. Кто-то был падок на золото, кто-то - на земли; иным и вовсе было достаточно храбрых мужских дел под началом у такого господина, как Валент Аммоний. А еще часть, и очень большая, подчинялась ему из суеверных чувств: Валент знал, как легко дикие люди верят самым нелепым байкам и придумывают себе земных кумиров, не находя их на небесах.
И греческие цари, и просвещенный султан Мехмед очаровывали и покоряли себе дикарей точно так же, как он.
Валент спустился с гор и дальше пошел почти тем же путем, каким ехала Феодора со своими спасителями: звериное чутье безошибочно вело его и его воинов. Он останавливался в тех же деревнях и расспрашивал тех же людей, что и московитка, - и кто-то отмалчивался, а кто-то и отвечал.
Злакам, которых не трогают бури, вырывающие с корнем могучие деревья, нет дела до этих бурь. Им опаснее другие, мелкие и каждодневные, ненастья. И Валент скоро узнал все, что крестьяне могли рассказать ему о путниках, проезжавших через предгорья два с лишним месяца назад.
Теперь он не сомневался, что его русская жена направлялась в дом Льва – туда, где сейчас жила Метаксия Калокир. Что ж, вдова его брата горько пожалеет, что не дала Валенту довершить свою месть. Разве не этому учили древние поэмы, которые она так любила со своей московиткой, - что месть пылает тем ярче, чем больше ей препятствуют? Сейчас женщины увидят, что это не только слова.
А за царский титул, коль скоро женщина притязает на него, она должна биться неустанно, подобно мужчине.
Валент скакал, радуясь себе и своей удаче: с каждым часом он все ближе чувствовал биение сердец своих жертв. Несчастные! Пожалуй, он даже не убьет Метаксию, хотя она десять раз это заслужила: он оставит ее жить, лишив всего, что она любит. Хотя ему убивать ее даже не нужно – слишком много кругом опасностей для женщины, которая долгие годы вела себя так бесстыдно; и теперь, наконец, настало время за это расплатиться сполна…
Он и его люди были не дальше, чем в двух днях пути от дома Льва Аммония, когда случилось непредвиденное.
Валент всегда был очень крепок и здоров – но проснувшись однажды утром после привала, он вдруг понял, что не может встать, как будто сверху давила могильная плита. На него напал жар, потом озноб; ломило суставы и кости. Может быть, лихорадка вползла в его члены из земли?
К нему заглядывали в палатку, тревожились – но никто из его людей не знал, что за болезнь напала на предводителя. Эти дикари почти не умели лечиться, предоставляя заболевшего судьбе: не лучше европейцев. Валент сейчас ужасно жалел, что далек от своего домашнего врача – и даже константинопольских лекарей, сохранивших искусство своих предков. Он слышал также, что и турецкие врачи, а особенно персидские, очень умелы!
Сердясь на общую беспомощность, Валент наконец прогнал от себя всех: его оставили в покое и те воины, что прельстились наживой и громкими делами, и те, кто нашел в нем кумира. Последние – и подавно: ведь бог не может хворать!
Валент почему-то почти не боялся умереть – хотя понимал, что болен серьезно. Слабость ужасала его куда больше: вскоре его начала мучить жажда, а рядом с ним не оставили никакой посудины, чтобы напиться. Встать же и проделать путь в угол, где стоял кувшин с водой, оказалось неимоверно трудно.
Валент напился из горсти, омочил горящий лоб, виски и лег обратно на кошму. Он погрузился в сон, из которого его то и дело вырывали необыкновенно резкие звуки снаружи: никто не думал о том, чтобы не шуметь, - а может, то играл шутки его воспаленный мозг.
Он закрыл глаза и придремал – совсем недолго; но когда очнулся, все снаружи волшебным образом стихло. Валент ощутил легкость в теле и ясность в голове: но когда хотел встать, обнаружил, что по-прежнему не может, словно невидимые цепи приковали его к одру болезни.
Шевельнулся полог, загораживавший вход в шатер; а потом внутрь ступила женщина.
Откуда здесь женщины?.. Валент хотел вскочить, но только дрогнул и застонал от тщетности усилий: а когда он разглядел вошедшую, вдруг понял, что из всех женщин здесь может быть она и только она.
Феофано была под вышитым покрывалом – и улыбалась под своим покрывалом. Она подняла его обеими руками, и открылось ее лицо, жирно подведенные черным огромные глаза и карминно-красный крупный рот. В черных волосах, высоко подобранных, притаились золотые змеи с рубиновыми глазами – диадема, которую Валент когда-то видел на ней…
Эта женщина вызывала в нем вожделение и ужас сразу: теперь, когда он не мог шевельнуться, только глядеть на нее.
- Славный Валент, - сказала Феофано, направляясь к его одру: она продолжала улыбаться. – Храбрый Валент! Ты всегда верил в то, что прав сильнейший, - но теперь ты так слаб… И кто же прав в эту минуту, когда мы с тобой говорим?
- Это пройдет, - прошептал Валент. – Я очень скоро верну себе силу, а ты узнаешь свое место!
Феофано посмеялась.
- У тебя ничего не выйдет, македонец, - сказала она. – Поворачивай назад.
Валент усмехнулся: оскорбление вмиг заставило его забыть слабость и страх.
- Еще чего!
Но тут же страх вернулся, с удвоенной силой. Такого Валент не ждал: широко раскрыв глаза, он увидел, как из-под золотых и пурпурных одежд Феофано выставилась блестящая голова змеи. Кобра высунула язык и тут же спрятала.
Валент судорожно вздохнул: едва веря своим глазам, он увидел, как Феофано разоблачается, разматывая свой широкий пурпурный с золотой полосой гиматий, под которым оказался серебристый хитон с рисунком из черных лилий. Змея обвила смуглую высокую шею царицы, подобно ожерелью, которое удивительно ей шло. Феофано подняла руки к застежкам на плечах.
- Скажи – ты долго мечтал об этом, мой славный Валент? – спросила она, неотрывно глядя военачальнику в лицо.
Несомненно, он долго мечтал об этом: но не так! Он мечтал впечатать Феофано лицом в стену, заглушая ее крики; а еще лучше – поставить на колени…
Лакедемонянка обнажилась совсем – у нее было прекрасное тело, хотя и слишком твердое, мускулистое для женщины. Ожерелье-змея куда-то ускользнуло – на царице ничего не осталось, кроме браслетов, обвивавших руки выше локтей. Но когда она протянула руки к Валенту, браслеты ожили… и уже две змеи, шипя, поползли к Валенту на грудь: он ощутил холодную скользкость их гибких тел, и закрыл глаза. Желание его никуда не делось – и, вместе с ужасом, только возросло: и македонцу стало очень стыдно. Он вдруг понял, что совершенно наг, и Феофано глядит на его чресла. И опять он испугался – не смерти, а того, что эта слабость навсегда…
А потом он ощутил на себе ее тяжесть: Феофано оседлала его, сдавив коленями его бедра. Валент простонал сквозь зубы: он совсем забыл, как сильны ее ноги, хотя столько раз видел ее посадку на коне!
- Я говорила тебе, как люблю таких красивых и сильных мужчин? – прошептала василисса ему на ухо.
Холодные змеи ползали по его груди, плечам, как ее горячие руки. Валент ощутил, что истаивает в блаженстве: он откинул голову назад, уже не сдерживая стонов. Он ощущал себя всесильным, как всегда, когда обладал женщиной; но, вместе с тем, сладко слабел, точно замерзающий или умирающий от потери крови. И это всесилие – было не его всесилие, а Феофано: она тоже неистово наслаждалась сейчас, но не как женщина, а как мужчина! Не своей покорностью, а силой, которую императрица забирала у Валента!
У него потемнело в глазах, когда ее колени сжались как тиски, точно она укрощала слишком норовистого жеребца. Но в нем более не осталось ни норова, ни собственной мысли.
Феофано встала с него, а для Валента все вокруг застил мрак. Змеи свернулись у него на груди, в ногах, а он не мог шевельнуть и пальцем.
- Что же ты медлишь? – спросил он, едва ворочая языком. – Убей!..
Он услышал ее смешок.
- Нет, тебя никто не убьет. Это было бы слишком просто! И уж никак не по твоим грехам!
Валент попытался улыбнуться своей любовнице, улыбнуться такой безумной кончине.
- Я всегда восхищался тобой, Феофано, - вдруг признался он. – Тем, что ты не такая, как другие женщины! Для них естественно подчиняться, а не властвовать… быть желанными, а не желать, и представлять мужчин, а не себя! В этом женское счастье, царица!
Он с неожиданной угрюмостью закончил:
- Ты и сама прекрасно знаешь это – и напрасно бултыхаешься, все равно утонешь вместе с ними!
Феофано долго молчала – она по-прежнему была обнажена, но почему-то ее тело перестало волновать Валента. Вернее сказать: он не ощущал желания уже так долго после соития, что даже встревожился… хотя раньше был неутомим – и воздерживался уже много дней!
- Ты хорошо понимаешь женщин, - наконец услышал он голос царицы: змеи куда-то пропали. – Но недостаточно хорошо. А недостаточное знание порою равносильно поражению, военачальник.
Феофано отвернулась и набросила на плечи и голову свой гиматий, скрывшись от него совсем.
- Ты прав, таких женщин, как ты сказал, много… но я тоже женщина. И я научу желать тех моих сестер, кто этого не умеет; и дам свою силу тем моим сестрам, кому ее недостает! Мою девочку я наделю с избытком, будь покоен!
Она вдруг опять повернулась к нему и улыбнулась: улыбнулись и ее губы, и ее огромные глаза.
- А свою силу я возьму у тебя, хилиарх. Ты не находишь, что это справедливо?
Тут Валент все понял; он чуть не закричал, но мочи хватило только на то, чтобы воскликнуть едва слышно:
- Лучше отдай меня своим змеям!
Но царица уже исчезла, и ее слуги тоже.
Черный хилиарх беззвучно заплакал. А потом погрузился в сон: и спал очень долго, без сновидений.
Когда Валент открыл глаза, слабость уменьшилась, и он смог даже встать: весь мокрый от пота, и действительно обнаженный - наверное, разделся в жару. Вспоминая свой сон, македонец содрогался. Больше всего на свете он боялся, что неведомая хворь в самом деле могла лишить его мужской силы: но, к счастью, это оказалось не так.
Еще день – и можно будет продолжать путь. Мало ли что могло ему привидеться на больную голову!
Но Валент вдруг понял, что не может.
Он, никогда не боявшийся ничего, не верил ни в какие возмездия – жизнь всегда показывала Валенту, что получают по так называемым заслугам только слабые и трусы. Разве Александр Великий, Ганнибал, Помпей… и султан Мехмед Фатих не утопили мир в крови? Но кто посмеет теперь хотя бы возвысить голос против них?
Но когда он покинул палатку и его люди увидели его живым и здоровым, Валент понял, что не может приказать им следовать дальше: ехать захватывать патрикию Метаксию Калокир – божественную Феофано, вместе с ее московской подругой! Конечно, он боялся не смерти от рук женщин: он суеверно боялся того, что куда хуже смерти.
"Потом, - наконец решил македонец, когда в борьбе с самим собой одолела слабость. – Не всегда же моя малышка-жена будет с ней! Попадется и одна! И моего сына я у них непременно достану!"
Валент улыбнулся: он по-прежнему не сомневался – его от него не уйдет.
Он повернул и поехал назад в горы: когда наступит час, он предложит свою силу султану Мехмеду, как сделали уже многие аристократы. И султан, конечно, не откажется.
В ночь на двадцать девятое мая Феофано и Феодора спали в одной постели, обнявшись, – как будто обе услышали, что наступает конец мира и начало нового мира. А утром Феодора призналась:
- Мне приснилось, что с Софии упал крест…
Феофано, улыбавшаяся ей со сна, перестала улыбаться на несколько мгновений. А потом вдруг опять просияла и потрепала подругу по плечу:
- А мне приснился Валент, представь себе! Он был очень болен и звал на помощь – и никто его не слышал, кроме меня!
Феодора изумилась, встревожилась.
- И ты ему помогла?
- Ну конечно, - сказала царица.
Re: Ставрос
Глава 94
- Все, хватит, - сказала Феофано, глядя на свою филэ. Феодора не жаловалась вслух – она вообще почти никогда не жаловалась; но Феофано понимала не только каждое слово, а каждое ее движение.
- Я могу еще, - сказала Феодора, сгибая, а потом выпрямляя руки. Потом она стала встряхивать ими, чтобы разогнать кровь: как ее учила лакедемонянка.
- Конечно, сегодня ты можешь еще, - согласилась Феофано, наклоняясь и подбирая лук подруги; ее собственный висел у нее за плечами. – Но тогда завтра ты этими руками даже миску с ложкой держать не сможешь.
Феодора, благодарно улыбаясь, села на траву; она проследила, как царица дошла до развесистой ивы, дерева Гекаты, в которую она выпускала стрелы. Сильными быстрыми движениями Феофано вырвала последние три.
- Пока стрелы у тебя есть, - сказала она, направляясь обратно к московитке. – Но нужно учиться собирать их, если понадобится... я очень хотела бы, чтобы это осталось навсегда игрой и не пригодилось тебе, но сейчас нельзя ручаться ни за один день.
Она вернула стрелы Феодоре, и та убрала их в свой плетеный тул, подвешенный к широкому кожаному поясу.
- А я хотела бы попробовать… - начала было московитка; но тут Феофано схватила ее за плечо, взгляд стал пронизывающим и страшным.
- Хотела бы попробовать сама убить? Это действительно легко… легче, чем кажется.
Феодора прикрыла глаза.
- Я плохо говорю, прости меня.
Лакедемонянка кивнула.
- Я понимаю, что ты хотела сказать, дорогая.
Она кивнула в сторону, где паслись их лошади, и подруги вдвоем направились к ним. Феодора с особенной любовью погладила свою Тессу и угостила ее хлебом: гнедая любимица пощекотала губами ее ладонь.
Они сели на лошадей и медленно поехали назад, в сторону дома. Когда наездницы соприкоснулись коленями, Феодора снова нарушила молчание.
- Я как раз думала, какое это страшное убийство – какому ты учишь меня, - сказала она. – Ведь это… почти подлость! Совсем не то, что близко сойтись в оружной схватке!
- А, теперь ты поняла, - усмехнулась Феофано. – Верно, филэ, поэтому у воинов бывают товарищи-мечи, служащие святому делу, и не бывает товарищей-луков… Я убила своего первого врага из лука, - задумчиво сказала она. – Я тогда спасала от опасности моего дорогого Марка - но было так легко поверить, что это игра… Я сидела в укрытии, и этот юноша даже не подозревал, откуда его убьют. Он был моложе, чем ты сейчас, когда я оборвала его жизнь.
Она не прибавила, что в честь этого храброго юного слуги был назван любимый сын ее подруги, - хотя, может, и стоило бы.
Феодора долго не отвечала, глядя на луку своего седла, - а потом сказала, не поднимая головы:
- Я хотела бы выстрелить, прикрывая от опасности тебя.
Феофано с гордостью улыбнулась. Конечно, хотела бы; но не только это. В ее возлюбленной варварке заговорила кровь, ей хотелось отстоять своих и себя самое, сражаясь с врагами и перенимая их силу и славу, как делали все языческие предки. Как трудно, когда такие чувства спорят с христианскими!
Но без такой – или подобной науки не может быть и твердости в вере: как и ни в чем вообще. Как сделаться храбрецом, не сделавшись убийцей?
Мать Евдокия, мать всем здешним московитам, много раз причиняла смерть – пусть и чужими руками; но так же верно, как убивала бы собственными. Феодора тоже отнимала жизни. Это право – и долг старших над людьми, и никогда не будет иначе, какой бы бог и храм ни воцарялись над ними! Только бы подлые способы убийства не заместили окончательно способов священных: тогда у владык, вместе с храбростью, совсем выродится и совесть.
Когда они спешились, Феофано задержала подругу, пока они еще были вдали от чужих глаз и ушей.
- Я действительно горжусь тобой. Ты делаешь замечательные для женщины успехи.
- Как ты? – ревниво спросила Феодора.
- Нет, я успевала гораздо быстрее, - сказала Феофано с беспечной гордостью гречанки. – Но таких, как я, мало… даже у нас, ромеев.
Она взяла подругу под натруженную руку, и они вместе пошли в дом. Было лето – прекраснейшая пора, когда даже день, проведенный в поту, в тяжких телесных упражнениях, напитывал человека свежестью и здоровьем. Только подумать, как они благодарили эту природу за ласку – готовясь к убийству друг друга!
- Метаксия, - сказала вдруг московитка, когда они оказались в гостиной. – Этот мой сон про Софию был неспроста, я чувствую… что-то случилось.
Феофано остановилась среди теней, одевших ее в траур. Гречанка склонила голову.
- Я знаю, что случилось. Мы скоро услышим из первых уст… даже если никто из наших не уцелеет, чтобы добраться до нас, мне скажут другие. Но мне не нужно этих слов. Мое сердце кричит о гибели Города!
Феодора не стала ахать, заламывать руки, говорить свои ненужные слова… только перекрестилась. Потом подошла к Феофано, и крепко обняла ее: почти с такой же силой, с какой Феофано доказывала свои права на нее саму. Феофано молча прижала подругу к сердцу: сильные пальцы вцепились в ее спину, проскользнув под перевязью с тяжелым длинным луком.
- Теперь тебе нужно бояться, - прошептала Феодора, посмотрев в потускневшие серые глаза. Феофано улыбнулась.
- Наверное… Только я не боюсь.
Они посмотрели друг другу в лицо и рассмеялись – две безумные стиганоры*! Почему им так верится вдвоем, что все будет хорошо – только если они будут до конца держаться друг друга?
- На самом деле, я думаю, мне – а значит, и тебе – еще долго ничего не грозит, - успокоившись, сказала царица. – Им, в Константинополе, теперь совсем не до нас. Сначала Мехмед будет разбираться с теми, кто близко, под его рукой: а греки зададут ему хлопот, особенно те, кто как будто бы перешел на его сторону… Но ты ведь знаешь наших!
- Как ты… смирилась, - прошептала Феодора.
Ей было страшно даже представить, что сейчас делается в Константинополе, - а ведь там и ее друзья, ее русские люди… Феофано же оставалась похоронно-спокойна.
Она вдруг поняла, что Феофано давно уже списала Город со счетов – и столицу империи благородная патрикия мнила не там, где Константинополь, а там, где она сама! Что ж – а ведь это верно… Кто еще так воплотил в себе греческий дух, как она?
- А Валент… Неужели ты не боишься Валента? – спросила московитка.
- Валент нас не тронет, - ответила Феофано с полной убежденностью. – Он ведь хочет остаться мужчиной! А рядом со мной ему трудно даже дышать!
Феодора осторожно кивнула, глядя на лакедемонянку. Она помнила, как Валент суеверен, - да и без этого можно было поверить, что он не сунется к Феофано. Стреляла царица амазонок ничуть не хуже, чем мифические ее прародительницы с Термодонта*.
- Мне кажется, Валент уничтожит себя сам, - сказала вдруг Феофано, щуря глаза. – Он уже казнит себя… вернее сказать, казнит Валента его собственный дух, что в нем от Бога. Помнишь, что сказано в Писании? "И вы не свои".*
- Ты в это веришь? – спросила Феодора.
- Теперь верю, - ответила ее филэ. – Но это не помешает мне отомстить ему, если только представится случай.
Феофано никого не посылала в Город в эти дни – у нее не осталось людей, которыми она могла бы так рисковать; но вместо женщин это сделал Дионисий. Он приехал к ним в гости, без приглашения, как уже делал несколько раз – точно опекун: и обе давно с благодарностью приняли такую негласную власть, хотя ни одна ни говорила вслух.
Дионисий сердечно обнял Феофано, потом Феодору; но обе по лицу его поняли, что не обманулись в своих предчувствиях.
- Город пал? – воскликнула патрикия.
- Да, - ответил Дионисий сумрачно.
Феодора перекрестилась; внутри у нее все оборвалось, как ни готовилась она к такому известию. Феофано не перекрестилась – только сложила руки на груди и выше подняла голову.
- Идем в дом, - резко приказала хозяйка.
Дионисий склонил голову и молча последовал за женщинами.
Когда ему налили вина, он долго не мог оторваться от своего кубка и заговорить; красивое угрюмое лицо старшего Аммония тонуло в тенях, и ни одна из подруг не решалась разгадать это выражение, прервать молчание.
Когда кубок опустел – Дионисий пил мелкими глотками, надолго прерываясь и погружаясь в свои мысли, - Феофано приказала налить гостю еще.
Дионисий только посмотрел во влекущую пурпурную глубину, - вино его мертвого брата! - и отставил кубок. Он наконец поднял глаза.
- Осада кончилась, - произнес он, посмотрев сначала на старшую амазонку, потом на младшую. – Все этого ждали… и многие после того, как Мехмед вошел в Город, сами отдались ему в руки.
Феофано облокотилась на стол, разделявший их, и прикрыла ладонью лицо.
- О моя Византия, - сказала она глухо, горестно, захватив в горсть волосы, подобранные в в узел с длинным хвостом на затылке. – Мы сами погубили тебя, империя!
Дионисий позволил себе небольшую улыбку.
- Сами погубили - так же, как создали, - сказал он. – Второй Рим пал.
Он протянул к женщинам руку, и три руки соединились на столе в крепком пожатии.
- Император мертв? – спросила Феофано прерывающимся голосом.
- Его голова выставлена на колу на ипподроме, - сказал Дионисий.
Феофано всхлипнула от ярости и стыда; она вырвала свою руку у покровителя. Сам он побледнел, скулы и крепкая челюсть, окаймленная подстриженной черной бородой, напряглись.
- А видел ты Валента? – спросила тут и Феодора. Ей больше ничего не пришло на ум – слишком она была поражена.
Дионисий покачал головой, ничего не прибавляя.
- Лев здоров и силен, госпожа, - произнес он, впервые взглянув Феодоре в глаза. – Мы с Кассандрой каждый день благодарим тебя за такой подарок.
Феодора не сразу поняла, о каком Льве идет речь; потом с жарким стыдом осознала, что даже не вспомнила о младшем сыне, когда увидела Дионисия. Как будто ее память не желала хранить ничего, что принадлежало Валенту!
Но ведь Лев больше не ее сын – это сын Дионисия и Кассандры, и всем будет лучше, если она скорее забудет его!
- Я тебе тоже очень благодарна… господин, - сказала Феодора, опустив глаза.
Дионисий кивнул; и Феодора обрадовалась, что у него достало понимания не продолжать.
- Султан переименовал Константинополь, - вдруг сказал он. – Назвал его тем же именем, под каким он был известен и среди нас, - Город, или "к Городу": "Стамбул" по-турецки. А к Святой Софии намерен пристроить минареты, превратив ее в главную городскую мечеть.
Дионисий вдруг рассмеялся – коротко, страшно.
- Мехмед желает сохранить наши сокровища искусств и даже святыни, - произнес он. – Мне рассказывали, что молодой султан был очень опечален разрушениями, которые причинили нашей столице его победоносные воины. Но его заботы – это то же самое, что он сделал с нашим императором: самая жестокая насмешка… Ведь тело Константина Палеолога похоронено с почестями – в то время как голова выставлена на позор всем, кто пожелает посмеяться над ним!
Феофано прикрыла глаза, губы ее беззвучно шевельнулись; лицо стало пепельным. Феодора сжала ее руку.
- Нужно написать мужу, - прошептала она.
- Напиши, - согласился Дионисий, вставая. Он помолчал и прибавил, постучав пальцами по столу:
- Прошу меня простить, мои госпожи, но я должен ехать: жена ждет. Если я еще могу вам помочь…
Феофано вскинула руку.
- Нет… если ты все сказал, ничего не нужно.
Обе женщины с облегчением проводили Дионисия: говорить друг с другом им троим сейчас было почти невыносимо.
Феодора, вернувшись в дом, тут же уединилась и написала длинное письмо Фоме Нотарасу: чернила размывались слезами. Первое письмо она разорвала, перечитав его, – и написала второе, гораздо короче.
Фома Нотарас приехал через полтора дня, а не через два, когда его ждали, - гнал лошадей; вид его говорил о пережитых и глубоко похороненных страданиях, но патрикий казался гораздо решительнее прежнего. Почти сразу он вызвал жену в сад для разговора.
- Тебе нужно вернуться домой, - сказал он. – Все готово: я не понимаю, чего ты ждешь!
Феодора резко засмеялась, услышав это.
- Мой дом слишком далеко, Фома, - сказала она. – И я не знаю, смогу ли туда когда-нибудь вернуться!
Фома пораженно покачал головой, отступив от нее.
- Вот уж не думал, что ты припомнишь мне это сейчас!
- А почему нет? Когда, если не сейчас, - разве я тебе жена теперь? – шагнув к нему, ответила московитка. – Я и венчалась с тобой обманом… и к тому храму, где была наша свадьба, теперь пристраивают минареты!
Фома усмехнулся. Он, несмотря ни на что, подтянулся и похорошел с тех пор, как они расстались: может быть, тоже долго упражнялся в воинском искусстве, пока его не видели.
- Дело не в этом, дорогая, - сказал патрикий. – Просто ты решила, что я больше тебя не достоин… ты могла бы жить со мной как жена, но не желаешь этого.
Феодора сжала губы, чтобы не ответить прямо. Но этого было и не нужно – оба все прекрасно понимали.
- А ты думала, что скажешь нашим детям, когда они подрастут? – спросил патрикий. – Что ты скажешь нашему сыну, когда он спросит, почему был лишен отца? Потому, что его мать… предпочла жить в блуде, а не в браке?..
Феодора ахнула.
Она сжала кулаки, сдерживая гнев; но не набросилась на мужа, потому что понимала – отчасти он прав… Но в самой ли важной части прав?
- Хорошо, - вдруг сказала московитка. – Я вернусь с тобой, Фома, как ты того желаешь. А ты сможешь быть мне мужем – и защищать меня и отвечать за меня, как следует мужу? И заботиться о наших детях, этих – и, может быть, новых?
- Да, - быстро сказал патрикий: гладкие бледные щеки занялись румянцем.
Феодора долго смотрела мужу в лицо – потом покачала головой.
- Нет, Фома, не сможешь. Ты сейчас говоришь так только затем, чтобы я тебя послушалась, - а если я послушаюсь, повторится то же, что уже было у нас с тобой…
Патрикий щелкнул пальцами, прерывая ее, - и сказал с великолепной иронией:
- У тебя был после меня настоящий мужчина и защитник – но ты не захотела, чтобы он повез тебя в мешке к султану! Мне кажется, что ты вместе с Метаксией ищешь чего-то, чего не бывает на земле! Моя сестра научила тебя несбыточным мечтаниям!
"Несбыточным ли?"
Феодора покачала головой.
- Нет, Фома, ты сам понимаешь, что больше ничего не выйдет. Так лучше для всех нас.
- Ты просто решила, что со мной можно так обращаться, - сказал патрикий; опять на лице промелькнуло прежнее детское обиженно-доверчивое выражение.
И Феодора вдруг опять испугалась последствий своих речей. Этот человек мог выкинуть что угодно, когда от него совсем не ждали.
Она взяла мужа за руку – он не вырвался, но и не ответил на пожатие. Оба не поднимали глаз.
- Я не могу, - тихо сказала Феодора. – И ты тоже не сможешь. Нам не судьба с тобой.
Фома кивнул, ничего не говоря; Феодора приблизила к себе его голову и поцеловала в лоб.
- Я всегда тебя любила…
Фома кивнул: он не поднял глаз и ничего не ответил, только тень прошла по его лицу.
- А можно мне взглянуть на сына? – спросил он.
Феодора покусала губы.
- Могу ли я тебе запретить? Сам решай – хочешь ли ты казаться ему тем, кем не сможешь для него быть!
Римский патрикий кивнул с усмешкой.
- И снова ты права. Лучше мне уехать, пока он меня не видел.
- Нет, - быстро сказала Феодора. – Если ты сможешь солгать Варду так убедительно, как это уже давно делаю я, - тогда иди к нему хоть сейчас.
Фома провел рукой по светлым волосам и вздохнул.
- Почему же не смогу – разве я не ромей? Только повтори мне еще раз, что ты ему рассказывала…
Фома Нотарас уехал только через три дня; больше он жену с собой не приглашал, хотя сам казался немного утешенным. Но надолго ли его хватит?
Боже, храни Византию, думала Феодора.
* "Мужененавистницы" (греч.), эпитет амазонок.
* Название реки в Малой Азии, на которой стояла Темискира, город амазонок. Возможно, легенды об амазонках имеют исторические корни.
* "Тела ваши суть храм живущего в вас Святаго Духа, Которого имеете вы от Бога, и вы не свои" (Послание к Коринфянам).
- Все, хватит, - сказала Феофано, глядя на свою филэ. Феодора не жаловалась вслух – она вообще почти никогда не жаловалась; но Феофано понимала не только каждое слово, а каждое ее движение.
- Я могу еще, - сказала Феодора, сгибая, а потом выпрямляя руки. Потом она стала встряхивать ими, чтобы разогнать кровь: как ее учила лакедемонянка.
- Конечно, сегодня ты можешь еще, - согласилась Феофано, наклоняясь и подбирая лук подруги; ее собственный висел у нее за плечами. – Но тогда завтра ты этими руками даже миску с ложкой держать не сможешь.
Феодора, благодарно улыбаясь, села на траву; она проследила, как царица дошла до развесистой ивы, дерева Гекаты, в которую она выпускала стрелы. Сильными быстрыми движениями Феофано вырвала последние три.
- Пока стрелы у тебя есть, - сказала она, направляясь обратно к московитке. – Но нужно учиться собирать их, если понадобится... я очень хотела бы, чтобы это осталось навсегда игрой и не пригодилось тебе, но сейчас нельзя ручаться ни за один день.
Она вернула стрелы Феодоре, и та убрала их в свой плетеный тул, подвешенный к широкому кожаному поясу.
- А я хотела бы попробовать… - начала было московитка; но тут Феофано схватила ее за плечо, взгляд стал пронизывающим и страшным.
- Хотела бы попробовать сама убить? Это действительно легко… легче, чем кажется.
Феодора прикрыла глаза.
- Я плохо говорю, прости меня.
Лакедемонянка кивнула.
- Я понимаю, что ты хотела сказать, дорогая.
Она кивнула в сторону, где паслись их лошади, и подруги вдвоем направились к ним. Феодора с особенной любовью погладила свою Тессу и угостила ее хлебом: гнедая любимица пощекотала губами ее ладонь.
Они сели на лошадей и медленно поехали назад, в сторону дома. Когда наездницы соприкоснулись коленями, Феодора снова нарушила молчание.
- Я как раз думала, какое это страшное убийство – какому ты учишь меня, - сказала она. – Ведь это… почти подлость! Совсем не то, что близко сойтись в оружной схватке!
- А, теперь ты поняла, - усмехнулась Феофано. – Верно, филэ, поэтому у воинов бывают товарищи-мечи, служащие святому делу, и не бывает товарищей-луков… Я убила своего первого врага из лука, - задумчиво сказала она. – Я тогда спасала от опасности моего дорогого Марка - но было так легко поверить, что это игра… Я сидела в укрытии, и этот юноша даже не подозревал, откуда его убьют. Он был моложе, чем ты сейчас, когда я оборвала его жизнь.
Она не прибавила, что в честь этого храброго юного слуги был назван любимый сын ее подруги, - хотя, может, и стоило бы.
Феодора долго не отвечала, глядя на луку своего седла, - а потом сказала, не поднимая головы:
- Я хотела бы выстрелить, прикрывая от опасности тебя.
Феофано с гордостью улыбнулась. Конечно, хотела бы; но не только это. В ее возлюбленной варварке заговорила кровь, ей хотелось отстоять своих и себя самое, сражаясь с врагами и перенимая их силу и славу, как делали все языческие предки. Как трудно, когда такие чувства спорят с христианскими!
Но без такой – или подобной науки не может быть и твердости в вере: как и ни в чем вообще. Как сделаться храбрецом, не сделавшись убийцей?
Мать Евдокия, мать всем здешним московитам, много раз причиняла смерть – пусть и чужими руками; но так же верно, как убивала бы собственными. Феодора тоже отнимала жизни. Это право – и долг старших над людьми, и никогда не будет иначе, какой бы бог и храм ни воцарялись над ними! Только бы подлые способы убийства не заместили окончательно способов священных: тогда у владык, вместе с храбростью, совсем выродится и совесть.
Когда они спешились, Феофано задержала подругу, пока они еще были вдали от чужих глаз и ушей.
- Я действительно горжусь тобой. Ты делаешь замечательные для женщины успехи.
- Как ты? – ревниво спросила Феодора.
- Нет, я успевала гораздо быстрее, - сказала Феофано с беспечной гордостью гречанки. – Но таких, как я, мало… даже у нас, ромеев.
Она взяла подругу под натруженную руку, и они вместе пошли в дом. Было лето – прекраснейшая пора, когда даже день, проведенный в поту, в тяжких телесных упражнениях, напитывал человека свежестью и здоровьем. Только подумать, как они благодарили эту природу за ласку – готовясь к убийству друг друга!
- Метаксия, - сказала вдруг московитка, когда они оказались в гостиной. – Этот мой сон про Софию был неспроста, я чувствую… что-то случилось.
Феофано остановилась среди теней, одевших ее в траур. Гречанка склонила голову.
- Я знаю, что случилось. Мы скоро услышим из первых уст… даже если никто из наших не уцелеет, чтобы добраться до нас, мне скажут другие. Но мне не нужно этих слов. Мое сердце кричит о гибели Города!
Феодора не стала ахать, заламывать руки, говорить свои ненужные слова… только перекрестилась. Потом подошла к Феофано, и крепко обняла ее: почти с такой же силой, с какой Феофано доказывала свои права на нее саму. Феофано молча прижала подругу к сердцу: сильные пальцы вцепились в ее спину, проскользнув под перевязью с тяжелым длинным луком.
- Теперь тебе нужно бояться, - прошептала Феодора, посмотрев в потускневшие серые глаза. Феофано улыбнулась.
- Наверное… Только я не боюсь.
Они посмотрели друг другу в лицо и рассмеялись – две безумные стиганоры*! Почему им так верится вдвоем, что все будет хорошо – только если они будут до конца держаться друг друга?
- На самом деле, я думаю, мне – а значит, и тебе – еще долго ничего не грозит, - успокоившись, сказала царица. – Им, в Константинополе, теперь совсем не до нас. Сначала Мехмед будет разбираться с теми, кто близко, под его рукой: а греки зададут ему хлопот, особенно те, кто как будто бы перешел на его сторону… Но ты ведь знаешь наших!
- Как ты… смирилась, - прошептала Феодора.
Ей было страшно даже представить, что сейчас делается в Константинополе, - а ведь там и ее друзья, ее русские люди… Феофано же оставалась похоронно-спокойна.
Она вдруг поняла, что Феофано давно уже списала Город со счетов – и столицу империи благородная патрикия мнила не там, где Константинополь, а там, где она сама! Что ж – а ведь это верно… Кто еще так воплотил в себе греческий дух, как она?
- А Валент… Неужели ты не боишься Валента? – спросила московитка.
- Валент нас не тронет, - ответила Феофано с полной убежденностью. – Он ведь хочет остаться мужчиной! А рядом со мной ему трудно даже дышать!
Феодора осторожно кивнула, глядя на лакедемонянку. Она помнила, как Валент суеверен, - да и без этого можно было поверить, что он не сунется к Феофано. Стреляла царица амазонок ничуть не хуже, чем мифические ее прародительницы с Термодонта*.
- Мне кажется, Валент уничтожит себя сам, - сказала вдруг Феофано, щуря глаза. – Он уже казнит себя… вернее сказать, казнит Валента его собственный дух, что в нем от Бога. Помнишь, что сказано в Писании? "И вы не свои".*
- Ты в это веришь? – спросила Феодора.
- Теперь верю, - ответила ее филэ. – Но это не помешает мне отомстить ему, если только представится случай.
Феофано никого не посылала в Город в эти дни – у нее не осталось людей, которыми она могла бы так рисковать; но вместо женщин это сделал Дионисий. Он приехал к ним в гости, без приглашения, как уже делал несколько раз – точно опекун: и обе давно с благодарностью приняли такую негласную власть, хотя ни одна ни говорила вслух.
Дионисий сердечно обнял Феофано, потом Феодору; но обе по лицу его поняли, что не обманулись в своих предчувствиях.
- Город пал? – воскликнула патрикия.
- Да, - ответил Дионисий сумрачно.
Феодора перекрестилась; внутри у нее все оборвалось, как ни готовилась она к такому известию. Феофано не перекрестилась – только сложила руки на груди и выше подняла голову.
- Идем в дом, - резко приказала хозяйка.
Дионисий склонил голову и молча последовал за женщинами.
Когда ему налили вина, он долго не мог оторваться от своего кубка и заговорить; красивое угрюмое лицо старшего Аммония тонуло в тенях, и ни одна из подруг не решалась разгадать это выражение, прервать молчание.
Когда кубок опустел – Дионисий пил мелкими глотками, надолго прерываясь и погружаясь в свои мысли, - Феофано приказала налить гостю еще.
Дионисий только посмотрел во влекущую пурпурную глубину, - вино его мертвого брата! - и отставил кубок. Он наконец поднял глаза.
- Осада кончилась, - произнес он, посмотрев сначала на старшую амазонку, потом на младшую. – Все этого ждали… и многие после того, как Мехмед вошел в Город, сами отдались ему в руки.
Феофано облокотилась на стол, разделявший их, и прикрыла ладонью лицо.
- О моя Византия, - сказала она глухо, горестно, захватив в горсть волосы, подобранные в в узел с длинным хвостом на затылке. – Мы сами погубили тебя, империя!
Дионисий позволил себе небольшую улыбку.
- Сами погубили - так же, как создали, - сказал он. – Второй Рим пал.
Он протянул к женщинам руку, и три руки соединились на столе в крепком пожатии.
- Император мертв? – спросила Феофано прерывающимся голосом.
- Его голова выставлена на колу на ипподроме, - сказал Дионисий.
Феофано всхлипнула от ярости и стыда; она вырвала свою руку у покровителя. Сам он побледнел, скулы и крепкая челюсть, окаймленная подстриженной черной бородой, напряглись.
- А видел ты Валента? – спросила тут и Феодора. Ей больше ничего не пришло на ум – слишком она была поражена.
Дионисий покачал головой, ничего не прибавляя.
- Лев здоров и силен, госпожа, - произнес он, впервые взглянув Феодоре в глаза. – Мы с Кассандрой каждый день благодарим тебя за такой подарок.
Феодора не сразу поняла, о каком Льве идет речь; потом с жарким стыдом осознала, что даже не вспомнила о младшем сыне, когда увидела Дионисия. Как будто ее память не желала хранить ничего, что принадлежало Валенту!
Но ведь Лев больше не ее сын – это сын Дионисия и Кассандры, и всем будет лучше, если она скорее забудет его!
- Я тебе тоже очень благодарна… господин, - сказала Феодора, опустив глаза.
Дионисий кивнул; и Феодора обрадовалась, что у него достало понимания не продолжать.
- Султан переименовал Константинополь, - вдруг сказал он. – Назвал его тем же именем, под каким он был известен и среди нас, - Город, или "к Городу": "Стамбул" по-турецки. А к Святой Софии намерен пристроить минареты, превратив ее в главную городскую мечеть.
Дионисий вдруг рассмеялся – коротко, страшно.
- Мехмед желает сохранить наши сокровища искусств и даже святыни, - произнес он. – Мне рассказывали, что молодой султан был очень опечален разрушениями, которые причинили нашей столице его победоносные воины. Но его заботы – это то же самое, что он сделал с нашим императором: самая жестокая насмешка… Ведь тело Константина Палеолога похоронено с почестями – в то время как голова выставлена на позор всем, кто пожелает посмеяться над ним!
Феофано прикрыла глаза, губы ее беззвучно шевельнулись; лицо стало пепельным. Феодора сжала ее руку.
- Нужно написать мужу, - прошептала она.
- Напиши, - согласился Дионисий, вставая. Он помолчал и прибавил, постучав пальцами по столу:
- Прошу меня простить, мои госпожи, но я должен ехать: жена ждет. Если я еще могу вам помочь…
Феофано вскинула руку.
- Нет… если ты все сказал, ничего не нужно.
Обе женщины с облегчением проводили Дионисия: говорить друг с другом им троим сейчас было почти невыносимо.
Феодора, вернувшись в дом, тут же уединилась и написала длинное письмо Фоме Нотарасу: чернила размывались слезами. Первое письмо она разорвала, перечитав его, – и написала второе, гораздо короче.
Фома Нотарас приехал через полтора дня, а не через два, когда его ждали, - гнал лошадей; вид его говорил о пережитых и глубоко похороненных страданиях, но патрикий казался гораздо решительнее прежнего. Почти сразу он вызвал жену в сад для разговора.
- Тебе нужно вернуться домой, - сказал он. – Все готово: я не понимаю, чего ты ждешь!
Феодора резко засмеялась, услышав это.
- Мой дом слишком далеко, Фома, - сказала она. – И я не знаю, смогу ли туда когда-нибудь вернуться!
Фома пораженно покачал головой, отступив от нее.
- Вот уж не думал, что ты припомнишь мне это сейчас!
- А почему нет? Когда, если не сейчас, - разве я тебе жена теперь? – шагнув к нему, ответила московитка. – Я и венчалась с тобой обманом… и к тому храму, где была наша свадьба, теперь пристраивают минареты!
Фома усмехнулся. Он, несмотря ни на что, подтянулся и похорошел с тех пор, как они расстались: может быть, тоже долго упражнялся в воинском искусстве, пока его не видели.
- Дело не в этом, дорогая, - сказал патрикий. – Просто ты решила, что я больше тебя не достоин… ты могла бы жить со мной как жена, но не желаешь этого.
Феодора сжала губы, чтобы не ответить прямо. Но этого было и не нужно – оба все прекрасно понимали.
- А ты думала, что скажешь нашим детям, когда они подрастут? – спросил патрикий. – Что ты скажешь нашему сыну, когда он спросит, почему был лишен отца? Потому, что его мать… предпочла жить в блуде, а не в браке?..
Феодора ахнула.
Она сжала кулаки, сдерживая гнев; но не набросилась на мужа, потому что понимала – отчасти он прав… Но в самой ли важной части прав?
- Хорошо, - вдруг сказала московитка. – Я вернусь с тобой, Фома, как ты того желаешь. А ты сможешь быть мне мужем – и защищать меня и отвечать за меня, как следует мужу? И заботиться о наших детях, этих – и, может быть, новых?
- Да, - быстро сказал патрикий: гладкие бледные щеки занялись румянцем.
Феодора долго смотрела мужу в лицо – потом покачала головой.
- Нет, Фома, не сможешь. Ты сейчас говоришь так только затем, чтобы я тебя послушалась, - а если я послушаюсь, повторится то же, что уже было у нас с тобой…
Патрикий щелкнул пальцами, прерывая ее, - и сказал с великолепной иронией:
- У тебя был после меня настоящий мужчина и защитник – но ты не захотела, чтобы он повез тебя в мешке к султану! Мне кажется, что ты вместе с Метаксией ищешь чего-то, чего не бывает на земле! Моя сестра научила тебя несбыточным мечтаниям!
"Несбыточным ли?"
Феодора покачала головой.
- Нет, Фома, ты сам понимаешь, что больше ничего не выйдет. Так лучше для всех нас.
- Ты просто решила, что со мной можно так обращаться, - сказал патрикий; опять на лице промелькнуло прежнее детское обиженно-доверчивое выражение.
И Феодора вдруг опять испугалась последствий своих речей. Этот человек мог выкинуть что угодно, когда от него совсем не ждали.
Она взяла мужа за руку – он не вырвался, но и не ответил на пожатие. Оба не поднимали глаз.
- Я не могу, - тихо сказала Феодора. – И ты тоже не сможешь. Нам не судьба с тобой.
Фома кивнул, ничего не говоря; Феодора приблизила к себе его голову и поцеловала в лоб.
- Я всегда тебя любила…
Фома кивнул: он не поднял глаз и ничего не ответил, только тень прошла по его лицу.
- А можно мне взглянуть на сына? – спросил он.
Феодора покусала губы.
- Могу ли я тебе запретить? Сам решай – хочешь ли ты казаться ему тем, кем не сможешь для него быть!
Римский патрикий кивнул с усмешкой.
- И снова ты права. Лучше мне уехать, пока он меня не видел.
- Нет, - быстро сказала Феодора. – Если ты сможешь солгать Варду так убедительно, как это уже давно делаю я, - тогда иди к нему хоть сейчас.
Фома провел рукой по светлым волосам и вздохнул.
- Почему же не смогу – разве я не ромей? Только повтори мне еще раз, что ты ему рассказывала…
Фома Нотарас уехал только через три дня; больше он жену с собой не приглашал, хотя сам казался немного утешенным. Но надолго ли его хватит?
Боже, храни Византию, думала Феодора.
* "Мужененавистницы" (греч.), эпитет амазонок.
* Название реки в Малой Азии, на которой стояла Темискира, город амазонок. Возможно, легенды об амазонках имеют исторические корни.
* "Тела ваши суть храм живущего в вас Святаго Духа, Которого имеете вы от Бога, и вы не свои" (Послание к Коринфянам).
Re: Ставрос
Глава 95
София и Агата не были прежде очень дружны – даже тогда, когда вместе заправляли отцовским домом; обе отличались застенчивостью, и близость их была вынужденная, кровная.
Но такую связь не разорвать, как и не избавиться от общих потрясений детства. Сестры помнили свою суровую статную мать, настоящую римлянку, - в которую обе девицы пошли лицом и фигурой. Но нравом Цецилия Гаврос была отважней своих дочерей. Она смела спорить с их отцом и даже кричать на него – София и Агата никогда не решались приближаться к родителям в такие минуты, но слушали сколько могли из-за дверей и занавесей; однако услышать и понять удавалось мало, долго Валент жене показывать свой нрав не позволял. Эти крики часто обрывались ударом – а порою градом ударов…
Потом мать долго не показывалась из своих покоев, и девочки – тоже: все в доме смирялось перед хозяином.
Такое детство, несмотря ни на что, не сплотило дочерей младшего Аммония. Открыть друг другу душу и сдружиться девицам помогло второе потрясение после кончины матери: предательство отца, о котором они узнали от дяди. И хотя, конечно, София и Агата не имели ни средств, ни отваги, чтобы восстать против Валента, они очень поддержали друг друга – и каждая сама по себе сформировавшаяся и выросшая девушка словно бы заменила второй сестре покойную мать.
Когда изменник-отец нагрянул к ним с азиатским войском и увез их в горы, сестры чуть не помешались от страха – несмотря ни на что, до сих пор жизнь их текла мирно: может быть, отец и защищал... Но теперь он не смог защитить себя самого от султана и вражьей веры!
И по ночам в этом новом убогом доме, - сестры ночевали в одной комнате, как привыкли с детства и полюбили, подружившись, - они подолгу шептались о своем положении, с рассудительностью и умом, какие сделали бы честь многим старшим и видавшим виды благородным гречанкам. Пока отца не было, девушки даже пробирались в библиотеку, которую устроила себе новая жена патрикия Аммония, скифская пленница, и читали ее книги. Скоро они почувствовали, что Феодора заметила это; но не сказала своим товарищам по несчастью ни слова.
Впрочем, русской полонянки дочери Валента дичились до самого конца, пока она не сбежала, - московитка отпугивала их не только своей варварской кровью, но и своей отчаянностью: хотя благородные девицы были почти одних лет с ней и отличались телесной крепостью, они не могли себе представить, как это можно пойти против такого господина, как их отец. Тем более, когда он устроил для своих домашних такую превосходную тюрьму! И, конечно, Феодора попалась бы, если бы не редкий счастливый случай!
Но подобных случаев судьба дарит немного – и, послав один, потом долго не расщедрится. София и Агата поняли это, переговорив между собой; и совсем скоро после бегства скифской пленницы испытали на собственной шкуре – когда летом, через полтора года после похищения, Валент Аммоний повез их вместе с младшим братом в Константинополь.
Сестры знали уже – слышали от воинов, да Валент и сам не слишком уже скрывался, - что Константинополь пал и теперь называется Стамбулом… Что ждет их там?
Впрочем, это почти не вызывало сомнений. Если уж Валент, который, несмотря ни на что, хорошо берег их до сих пор, решился повезти дочерей-невест в новую султанскую столицу, значит, он нашел им женихов - или жениха.
Скорее всего, именно так – одного на двоих…
- Я слышала, что турки любят совсем юных девушек. Да мы и для наших мужчин перезрели, - шептала двадцатилетняя Агата старшей сестре, когда на пути из Каппадокии в Стамбул они остались вдвоем в своей палатке. – Может, нас никто из врагов и не возьмет! Я бы согласилась всю жизнь оставаться невестой, только бы не…
- Нет, милая сестра, - возражала более мудрая София. – Нас возьмут, если отец предложит, - может быть, только из-за имени Аммониев… Туркам нужны женщины из благородных греческих семей: как, помнишь, мы читали, что императоры женились на состарившихся царевнах… Султан Мехмед теперь зовет себя нашим цезарем, и его слуги подражают нам!
Агата всхлипнула.
- Может быть, нас умыкнут, а жить с нами как с женами не будут! У турок теперь столько наших женщин – а принцы и паши могут выбирать самых лучших, чтобы те рождали им сыновей!
София посуровела.
- А тебе хочется, чтобы с тобой спал турок? Окстись!..
Она помолчала, плотно сжав губы, - и прибавила:
- Я слышала, у них разврата и насилия куда больше, чем в наших гинекеях, - потому что жен и рабов эти нечестивцы прячут гораздо лучше, а жаловаться им позволено гораздо меньше! Радуйся, если тебя не тронут!
- Но ведь тогда у нас и детей никогда не будет, - сказала несчастная Агата.
София встряхнула ее за плечо.
- Да ты с ума сошла, сестра! Рожать туркам детей!..
- Все равно мы ничего не сделаем, - сказала Агата.
Они обнялись и долго молчали.
- Бедный наш брат, - сказала София, глядя мрачными черными глазами через плечо сестры.
Агата горячо всхлипнула ей в шею.
- Иногда мне хочется, чтобы Мардоний умер - и не видел ничего этого! Может быть, в Константинополе его будут заставлять перейти в турецкую веру…
- Отца же не заставили, - возразила София. – Султан терпит у себя христиан.
- Мардоний – не отец, - ответила Агата. – Наш брат слаб, и ничем другим послужить туркам не сможет: только изменой нашей вере…
Девушки перекрестились, потом замолчали, усевшись рядом и прижавшись друг к другу. Что они могли поделать? Ничего, даже если будут говорить и плакаться друг другу ночь напролет!
Горько утешало хотя бы одно: может быть, в гареме их самих не будут заставлять переходить в ислам. Сестры знали, что турки намного менее внимательны к женщинам и их вере, чем к мужчинам.
Хотя какое христианство может остаться у них, если в своих домах они будут соседствовать с другими женами иноверцев – или, что еще страшнее, в одном и том же доме станут женами одного и того же человека?..
Когда сестры приехали в Стамбул, их сразу же препроводили в Большой дворец: вернее сказать, отец откуда-то добыл носилки, и чувства девушек были защищены от страшных зрелищ разрухи и следов войны; а также от взглядов победителей. Только здесь София и Агата по-настоящему почувствовали пропасть, лежавшую между ними и турками, - несмотря на все подражательство наглых врагов! Для грека женщина оставалась драгоценностью, идеалом, и он сохранял к ней уважение… отражаясь в восхищенных глазах грека, красивая женщина не чувствовала себя оскорбленной, и везде, куда бы ни ступила, видела свое возвеличение – в картинах и статуях, свете, высоте и просторе жилищ и храмов. Греческое христианство не уничтожило этого поклонения – а только облагородило его, несмотря на все пороки византийского государства. Турок же раздевал всякую женщину глазами, сводя ее предназначение к одному, – а особенно ту, которая забыла прикрыть лицо…
Конечно, османы были завоеватели, враги; но у себя на родине они держались с женщинами не лучше. И от такого отношения женам только и оставалось, что прятаться за толстыми стенами и зарешеченными окнами своих комнат.
София и Агата однажды видели Константинополь, еще малютками, - когда отец зачем-то брал с собой в столицу их с матерью; но в памяти их Город не запечатлелся, в отличие от родительских ссор. Они запомнят его только таким – покоренным…
Их донесли до самого дворца, и там мрачный отец, заглянув к сестрам, велел выходить.
- Прикройтесь, - бросил он им, сунув в руки Софии неведомо откуда взятые тонкие покрывала. Девушки и не помышляли о том, чтобы прекословить, - они покрыли головы и лица, и перед глазами все застила пелена. Так было и лучше.
Когда они выступили из носилок, дрожа и держась друг за друга, сквозь мутные покрывала пробилось сверканье моря, плескавшегося у самого подножия дворца императоров, – и это было так больно в их теперешнем положении, что Агата всхлипнула.
Никто более не видел ее слез, и никому более не было до них дела. Люди Валента окружили девушек и, тесня их своим оружием, повели ко входу во дворец. София и Агата не боялись мечей, блеск и звон которых различали под вуалями, - в этот миг молодым гречанкам казалось, что лучше было бы упасть замертво и не испытать того, что уже приготовил им отец…
Но их желания никого не тревожили. Девушки, с трепетом выглядывая из-за спин своих охранителей, увидели стражу у входа во дворец – турок, конечно: турецких рыцарей в доспехах и чалмах. У них были не мечи, а сабли. Турки о чем-то поговорили со стражей Софии и Агаты, а потом пропустили их во дворец вместе с отцом.
Сестры никогда прежде не бывали в палатах императора – но, пока их вели, успели различить статуи-держатели в темноте коридора и красочные фрески на стене. Неужели их никто не тронул?
Софии ужасно захотелось отбросить с лица покрывало, глотнуть воздуха, упиться картинами безвозвратного прошлого: но этого-то теперь и нельзя. Теперь все здесь принадлежит султану, считая и их самих…
Они остановились у входа в гинекей, который охранял какой-то темнолицый стражник. Может быть, он служил здесь еще во времена Константина и Иоанна, пережив своих василевсов.
София взяла под руку Агату, и сестры увидели перед собою отца: он хотел им сказать слово…
- Пока вы поживете здесь, - произнес Валент.
Казалось, македонец радуется, что ему не приходится смотреть девицам в лицо; они тоже были этому рады. Валент вдруг склонился к ним, словно чтобы обнять; София вскрикнула и отшатнулась, хотя это было неприлично. Стражник переступил с ноги на ногу и тронул рукоять сабли на боку – и у этого тоже была теперь сабля, кривая, как турецкие души!
Девушки думали, что теперь отец передаст их в руки чужих женщин, служанок гинекея, - но, к их изумлению, Валента пропустили на женскую половину: он проводил дочерей до какой-то небольшой роскошно и душно обставленной комнаты. Только там, наконец, они смогли открыть лица – и ясно увидеть отца.
Теперь сестры видели, что Валент улыбается с мрачным удовлетворением. Он кивнул новым затворницам султанского дворца, встретив их испуганные взгляды, - точно делал для них лучшее.
- Будьте послушны, - сказал отец, - и вам будет хорошо.
Агата открыла рот, словно чтобы гневно возразить; но София толкнула сестру в бок. Отцу это тоже не мед – такое с ними делать!
Валент ушел, так толком и не простившись; впрочем, это было и неважно.
Когда дверь за ним закрылась, сестры в ужасе посмотрели друг на друга.
- Мне кажется, я видела снаружи головы на кольях – и людей, - сказала Агата, трудно сглотнув и потерев горло: она стала обморочно бледной.
София поджала губы.
- При императоре это тоже было!
Агата кивнула, точно соглашаясь: точно было непонятно, что все так переменилось со времени смерти Константина, как будто белый свет вывернули наизнанку.
А пока они могли только ждать. У них не осталось никакого дела и никакого развлечения – только несколько ветхих свитков, которые Агата украла у отцовой скифской пленницы. Сестры не видели в своей комнате, как ночь спускается на Константинополь: и теперь затосковали даже по горам, где так любили встречать закаты и рассветы, наслаждаясь девичьей волей.
Когда они вышли в коридор, не выдержав такого времяпрепровождения, то услышали громкий тягучий призыв муэдзина, созывавшего правоверных на вечернюю молитву.
Только так они и будут теперь считать свои часы и дни.
Агата посмотрела в лицо Софии и сказала – бледная, решительная:
- Я хочу умереть.
София с болью в сердце обняла сестру и поцеловала. Она знала, что Агата ничего над собой не сделает, - это только отчаяние в ней говорит... но ко всему можно привыкнуть.
- Валент все-таки наш отец, - сказала старшая сестра. – Наверное, он постарается уберечь нас от бесчестья… сколько может.
- Он, наверное, много может - он ведь так давно изменил! – сказала Агата дрожащим голосом.
Старшая молчала. Младшая долго еще плакала, но наложить на себя руки больше не грозилась.
Через несколько дней к ним пришел турок: его привел отец.
Это был некрасивый толстый и стареющий человек с рыжей, как у султана Мехмеда, ухоженной бородой; и пронзительными маленькими глазами. И жадными хваткими руками, как у всех османов-победителей.
Он приказал, чтобы обе девушки встали перед ним, - они не успели прикрыть лица, но сейчас им и нужно было показать как можно больше: явился покупатель на их товар. Покупатель? Конечно, отец выторговал кое-что, уступая этому господину дочерей!
Девушки застыли от стыда и страха и терпели, пока турок хватал их за руки и даже за колени; они боялись, что им прикажут раздеться, но, к счастью, до такого не дошло. Гость что-то громко сказал отцу, потом засмеялся… и похлопал Валента по плечу.
У Софии в глазах потемнело при виде подобного бесстыдства. Раньше отец любого, кто позволил бы себе такое обхождение, стер бы в порошок.
Турок вышел, а Валент остался. Бедная Агата плакала, а София крепилась; и, не глядя на старшую, Валент подошел к младшей дочери и присел перед ней на корточки.
- Это твой будущий господин, - сказал он. – Твой и Софии.
- Но так нельзя! – вскрикнула София, осознав эти слова. Ведь это почти… кровосмешение!
Валент ласково усмехнулся, как будто не сказал ничего особенного; на старшую дочь он по-прежнему не смотрел. Он утер мокрую щеку Агаты большим пальцем.
- Это Ибрахим-паша – теперь градоначальник Стамбула, - сказал Валент. – Очень большой господин: если он возьмет вас, вы будете в безопасности и в почете.
Македонец помедлил.
- Он возьмет в жены только одну из вас, - прибавил Валент: дочери слушали в безмолвном ужасе. – Не бойтесь, у турок тоже есть честь! Вторая будет просто жить в его доме, под его защитой.
- И кого он возьмет? – прошептала Агата.
- Наверное, тебя – ты моложе, - сказал Валент без обиняков.
Агата разразилась рыданиями. Валент поморщился, посмотрел по сторонам, точно ища избавления от докучливых женщин, - потом встал.
- Теперь вы все знаете.
Отец быстро вышел из комнаты, хлопнув дверью.
Безутешная Агата бросилась в объятия Софии. Старшая, покачивая младшую, точно мать, подумала о Мардонии – они мало вспоминали о брате в эти дни; а ведь именно сейчас ему, может быть, делали обрезание! Или уже сделали!
Агата снова и снова повторяла, что хочет умереть, - но София знала, что никто из них не умрет: будут жить и терпеть, сколько положил им Господь.
Через несколько дней после этих смотрин Софию и Агату перевезли в дом Ибрахима-паши; а еще через два дня Агата стала его младшей женой – хотя и была старше других жен градоначальника! Она давно уже знала, что будет одной из жен этого высокопоставленного турка, - и ей это было почти безразлично теперь: что единственной, что в семье таких безгласных невольниц, все равно. Не лучше ли было броситься в воду с камнем на шее, как делали узницы монастыря на острове Проте! Но даже этим узницам было стократ лучше, чем ей!
Но в конце концов Агата смирилась – когда поняла, что беременна.
София осталась девственной; и радовалась такой доле. Она знала, что ей повезло куда больше, чем многим греческим женам и девицам. Отец сделал для нее и для сестры все, что мог. Даже помирился с турком, которому изменил! Наверное, для турок это обычное дело, когда они покоряют себе христиан!
Они так и не увиделись с Мардонием за эти недели – но Валент, навещавший их в доме нового господина, говорил, что и сыну тоже нашел хорошее место. София не смела спрашивать – и не желала знать, на самом деле, что это значит. Она крестилась и молилась, чтобы сохранить перед лицом врага хотя бы остатки своей чести и чести семьи.
И София все еще уповала на спасение, даже в таком заточении, - для нее надежды было все же больше, чем для сестры и брата! Пусть надежда и таяла с каждым днем.
София и Агата не были прежде очень дружны – даже тогда, когда вместе заправляли отцовским домом; обе отличались застенчивостью, и близость их была вынужденная, кровная.
Но такую связь не разорвать, как и не избавиться от общих потрясений детства. Сестры помнили свою суровую статную мать, настоящую римлянку, - в которую обе девицы пошли лицом и фигурой. Но нравом Цецилия Гаврос была отважней своих дочерей. Она смела спорить с их отцом и даже кричать на него – София и Агата никогда не решались приближаться к родителям в такие минуты, но слушали сколько могли из-за дверей и занавесей; однако услышать и понять удавалось мало, долго Валент жене показывать свой нрав не позволял. Эти крики часто обрывались ударом – а порою градом ударов…
Потом мать долго не показывалась из своих покоев, и девочки – тоже: все в доме смирялось перед хозяином.
Такое детство, несмотря ни на что, не сплотило дочерей младшего Аммония. Открыть друг другу душу и сдружиться девицам помогло второе потрясение после кончины матери: предательство отца, о котором они узнали от дяди. И хотя, конечно, София и Агата не имели ни средств, ни отваги, чтобы восстать против Валента, они очень поддержали друг друга – и каждая сама по себе сформировавшаяся и выросшая девушка словно бы заменила второй сестре покойную мать.
Когда изменник-отец нагрянул к ним с азиатским войском и увез их в горы, сестры чуть не помешались от страха – несмотря ни на что, до сих пор жизнь их текла мирно: может быть, отец и защищал... Но теперь он не смог защитить себя самого от султана и вражьей веры!
И по ночам в этом новом убогом доме, - сестры ночевали в одной комнате, как привыкли с детства и полюбили, подружившись, - они подолгу шептались о своем положении, с рассудительностью и умом, какие сделали бы честь многим старшим и видавшим виды благородным гречанкам. Пока отца не было, девушки даже пробирались в библиотеку, которую устроила себе новая жена патрикия Аммония, скифская пленница, и читали ее книги. Скоро они почувствовали, что Феодора заметила это; но не сказала своим товарищам по несчастью ни слова.
Впрочем, русской полонянки дочери Валента дичились до самого конца, пока она не сбежала, - московитка отпугивала их не только своей варварской кровью, но и своей отчаянностью: хотя благородные девицы были почти одних лет с ней и отличались телесной крепостью, они не могли себе представить, как это можно пойти против такого господина, как их отец. Тем более, когда он устроил для своих домашних такую превосходную тюрьму! И, конечно, Феодора попалась бы, если бы не редкий счастливый случай!
Но подобных случаев судьба дарит немного – и, послав один, потом долго не расщедрится. София и Агата поняли это, переговорив между собой; и совсем скоро после бегства скифской пленницы испытали на собственной шкуре – когда летом, через полтора года после похищения, Валент Аммоний повез их вместе с младшим братом в Константинополь.
Сестры знали уже – слышали от воинов, да Валент и сам не слишком уже скрывался, - что Константинополь пал и теперь называется Стамбулом… Что ждет их там?
Впрочем, это почти не вызывало сомнений. Если уж Валент, который, несмотря ни на что, хорошо берег их до сих пор, решился повезти дочерей-невест в новую султанскую столицу, значит, он нашел им женихов - или жениха.
Скорее всего, именно так – одного на двоих…
- Я слышала, что турки любят совсем юных девушек. Да мы и для наших мужчин перезрели, - шептала двадцатилетняя Агата старшей сестре, когда на пути из Каппадокии в Стамбул они остались вдвоем в своей палатке. – Может, нас никто из врагов и не возьмет! Я бы согласилась всю жизнь оставаться невестой, только бы не…
- Нет, милая сестра, - возражала более мудрая София. – Нас возьмут, если отец предложит, - может быть, только из-за имени Аммониев… Туркам нужны женщины из благородных греческих семей: как, помнишь, мы читали, что императоры женились на состарившихся царевнах… Султан Мехмед теперь зовет себя нашим цезарем, и его слуги подражают нам!
Агата всхлипнула.
- Может быть, нас умыкнут, а жить с нами как с женами не будут! У турок теперь столько наших женщин – а принцы и паши могут выбирать самых лучших, чтобы те рождали им сыновей!
София посуровела.
- А тебе хочется, чтобы с тобой спал турок? Окстись!..
Она помолчала, плотно сжав губы, - и прибавила:
- Я слышала, у них разврата и насилия куда больше, чем в наших гинекеях, - потому что жен и рабов эти нечестивцы прячут гораздо лучше, а жаловаться им позволено гораздо меньше! Радуйся, если тебя не тронут!
- Но ведь тогда у нас и детей никогда не будет, - сказала несчастная Агата.
София встряхнула ее за плечо.
- Да ты с ума сошла, сестра! Рожать туркам детей!..
- Все равно мы ничего не сделаем, - сказала Агата.
Они обнялись и долго молчали.
- Бедный наш брат, - сказала София, глядя мрачными черными глазами через плечо сестры.
Агата горячо всхлипнула ей в шею.
- Иногда мне хочется, чтобы Мардоний умер - и не видел ничего этого! Может быть, в Константинополе его будут заставлять перейти в турецкую веру…
- Отца же не заставили, - возразила София. – Султан терпит у себя христиан.
- Мардоний – не отец, - ответила Агата. – Наш брат слаб, и ничем другим послужить туркам не сможет: только изменой нашей вере…
Девушки перекрестились, потом замолчали, усевшись рядом и прижавшись друг к другу. Что они могли поделать? Ничего, даже если будут говорить и плакаться друг другу ночь напролет!
Горько утешало хотя бы одно: может быть, в гареме их самих не будут заставлять переходить в ислам. Сестры знали, что турки намного менее внимательны к женщинам и их вере, чем к мужчинам.
Хотя какое христианство может остаться у них, если в своих домах они будут соседствовать с другими женами иноверцев – или, что еще страшнее, в одном и том же доме станут женами одного и того же человека?..
Когда сестры приехали в Стамбул, их сразу же препроводили в Большой дворец: вернее сказать, отец откуда-то добыл носилки, и чувства девушек были защищены от страшных зрелищ разрухи и следов войны; а также от взглядов победителей. Только здесь София и Агата по-настоящему почувствовали пропасть, лежавшую между ними и турками, - несмотря на все подражательство наглых врагов! Для грека женщина оставалась драгоценностью, идеалом, и он сохранял к ней уважение… отражаясь в восхищенных глазах грека, красивая женщина не чувствовала себя оскорбленной, и везде, куда бы ни ступила, видела свое возвеличение – в картинах и статуях, свете, высоте и просторе жилищ и храмов. Греческое христианство не уничтожило этого поклонения – а только облагородило его, несмотря на все пороки византийского государства. Турок же раздевал всякую женщину глазами, сводя ее предназначение к одному, – а особенно ту, которая забыла прикрыть лицо…
Конечно, османы были завоеватели, враги; но у себя на родине они держались с женщинами не лучше. И от такого отношения женам только и оставалось, что прятаться за толстыми стенами и зарешеченными окнами своих комнат.
София и Агата однажды видели Константинополь, еще малютками, - когда отец зачем-то брал с собой в столицу их с матерью; но в памяти их Город не запечатлелся, в отличие от родительских ссор. Они запомнят его только таким – покоренным…
Их донесли до самого дворца, и там мрачный отец, заглянув к сестрам, велел выходить.
- Прикройтесь, - бросил он им, сунув в руки Софии неведомо откуда взятые тонкие покрывала. Девушки и не помышляли о том, чтобы прекословить, - они покрыли головы и лица, и перед глазами все застила пелена. Так было и лучше.
Когда они выступили из носилок, дрожа и держась друг за друга, сквозь мутные покрывала пробилось сверканье моря, плескавшегося у самого подножия дворца императоров, – и это было так больно в их теперешнем положении, что Агата всхлипнула.
Никто более не видел ее слез, и никому более не было до них дела. Люди Валента окружили девушек и, тесня их своим оружием, повели ко входу во дворец. София и Агата не боялись мечей, блеск и звон которых различали под вуалями, - в этот миг молодым гречанкам казалось, что лучше было бы упасть замертво и не испытать того, что уже приготовил им отец…
Но их желания никого не тревожили. Девушки, с трепетом выглядывая из-за спин своих охранителей, увидели стражу у входа во дворец – турок, конечно: турецких рыцарей в доспехах и чалмах. У них были не мечи, а сабли. Турки о чем-то поговорили со стражей Софии и Агаты, а потом пропустили их во дворец вместе с отцом.
Сестры никогда прежде не бывали в палатах императора – но, пока их вели, успели различить статуи-держатели в темноте коридора и красочные фрески на стене. Неужели их никто не тронул?
Софии ужасно захотелось отбросить с лица покрывало, глотнуть воздуха, упиться картинами безвозвратного прошлого: но этого-то теперь и нельзя. Теперь все здесь принадлежит султану, считая и их самих…
Они остановились у входа в гинекей, который охранял какой-то темнолицый стражник. Может быть, он служил здесь еще во времена Константина и Иоанна, пережив своих василевсов.
София взяла под руку Агату, и сестры увидели перед собою отца: он хотел им сказать слово…
- Пока вы поживете здесь, - произнес Валент.
Казалось, македонец радуется, что ему не приходится смотреть девицам в лицо; они тоже были этому рады. Валент вдруг склонился к ним, словно чтобы обнять; София вскрикнула и отшатнулась, хотя это было неприлично. Стражник переступил с ноги на ногу и тронул рукоять сабли на боку – и у этого тоже была теперь сабля, кривая, как турецкие души!
Девушки думали, что теперь отец передаст их в руки чужих женщин, служанок гинекея, - но, к их изумлению, Валента пропустили на женскую половину: он проводил дочерей до какой-то небольшой роскошно и душно обставленной комнаты. Только там, наконец, они смогли открыть лица – и ясно увидеть отца.
Теперь сестры видели, что Валент улыбается с мрачным удовлетворением. Он кивнул новым затворницам султанского дворца, встретив их испуганные взгляды, - точно делал для них лучшее.
- Будьте послушны, - сказал отец, - и вам будет хорошо.
Агата открыла рот, словно чтобы гневно возразить; но София толкнула сестру в бок. Отцу это тоже не мед – такое с ними делать!
Валент ушел, так толком и не простившись; впрочем, это было и неважно.
Когда дверь за ним закрылась, сестры в ужасе посмотрели друг на друга.
- Мне кажется, я видела снаружи головы на кольях – и людей, - сказала Агата, трудно сглотнув и потерев горло: она стала обморочно бледной.
София поджала губы.
- При императоре это тоже было!
Агата кивнула, точно соглашаясь: точно было непонятно, что все так переменилось со времени смерти Константина, как будто белый свет вывернули наизнанку.
А пока они могли только ждать. У них не осталось никакого дела и никакого развлечения – только несколько ветхих свитков, которые Агата украла у отцовой скифской пленницы. Сестры не видели в своей комнате, как ночь спускается на Константинополь: и теперь затосковали даже по горам, где так любили встречать закаты и рассветы, наслаждаясь девичьей волей.
Когда они вышли в коридор, не выдержав такого времяпрепровождения, то услышали громкий тягучий призыв муэдзина, созывавшего правоверных на вечернюю молитву.
Только так они и будут теперь считать свои часы и дни.
Агата посмотрела в лицо Софии и сказала – бледная, решительная:
- Я хочу умереть.
София с болью в сердце обняла сестру и поцеловала. Она знала, что Агата ничего над собой не сделает, - это только отчаяние в ней говорит... но ко всему можно привыкнуть.
- Валент все-таки наш отец, - сказала старшая сестра. – Наверное, он постарается уберечь нас от бесчестья… сколько может.
- Он, наверное, много может - он ведь так давно изменил! – сказала Агата дрожащим голосом.
Старшая молчала. Младшая долго еще плакала, но наложить на себя руки больше не грозилась.
Через несколько дней к ним пришел турок: его привел отец.
Это был некрасивый толстый и стареющий человек с рыжей, как у султана Мехмеда, ухоженной бородой; и пронзительными маленькими глазами. И жадными хваткими руками, как у всех османов-победителей.
Он приказал, чтобы обе девушки встали перед ним, - они не успели прикрыть лица, но сейчас им и нужно было показать как можно больше: явился покупатель на их товар. Покупатель? Конечно, отец выторговал кое-что, уступая этому господину дочерей!
Девушки застыли от стыда и страха и терпели, пока турок хватал их за руки и даже за колени; они боялись, что им прикажут раздеться, но, к счастью, до такого не дошло. Гость что-то громко сказал отцу, потом засмеялся… и похлопал Валента по плечу.
У Софии в глазах потемнело при виде подобного бесстыдства. Раньше отец любого, кто позволил бы себе такое обхождение, стер бы в порошок.
Турок вышел, а Валент остался. Бедная Агата плакала, а София крепилась; и, не глядя на старшую, Валент подошел к младшей дочери и присел перед ней на корточки.
- Это твой будущий господин, - сказал он. – Твой и Софии.
- Но так нельзя! – вскрикнула София, осознав эти слова. Ведь это почти… кровосмешение!
Валент ласково усмехнулся, как будто не сказал ничего особенного; на старшую дочь он по-прежнему не смотрел. Он утер мокрую щеку Агаты большим пальцем.
- Это Ибрахим-паша – теперь градоначальник Стамбула, - сказал Валент. – Очень большой господин: если он возьмет вас, вы будете в безопасности и в почете.
Македонец помедлил.
- Он возьмет в жены только одну из вас, - прибавил Валент: дочери слушали в безмолвном ужасе. – Не бойтесь, у турок тоже есть честь! Вторая будет просто жить в его доме, под его защитой.
- И кого он возьмет? – прошептала Агата.
- Наверное, тебя – ты моложе, - сказал Валент без обиняков.
Агата разразилась рыданиями. Валент поморщился, посмотрел по сторонам, точно ища избавления от докучливых женщин, - потом встал.
- Теперь вы все знаете.
Отец быстро вышел из комнаты, хлопнув дверью.
Безутешная Агата бросилась в объятия Софии. Старшая, покачивая младшую, точно мать, подумала о Мардонии – они мало вспоминали о брате в эти дни; а ведь именно сейчас ему, может быть, делали обрезание! Или уже сделали!
Агата снова и снова повторяла, что хочет умереть, - но София знала, что никто из них не умрет: будут жить и терпеть, сколько положил им Господь.
Через несколько дней после этих смотрин Софию и Агату перевезли в дом Ибрахима-паши; а еще через два дня Агата стала его младшей женой – хотя и была старше других жен градоначальника! Она давно уже знала, что будет одной из жен этого высокопоставленного турка, - и ей это было почти безразлично теперь: что единственной, что в семье таких безгласных невольниц, все равно. Не лучше ли было броситься в воду с камнем на шее, как делали узницы монастыря на острове Проте! Но даже этим узницам было стократ лучше, чем ей!
Но в конце концов Агата смирилась – когда поняла, что беременна.
София осталась девственной; и радовалась такой доле. Она знала, что ей повезло куда больше, чем многим греческим женам и девицам. Отец сделал для нее и для сестры все, что мог. Даже помирился с турком, которому изменил! Наверное, для турок это обычное дело, когда они покоряют себе христиан!
Они так и не увиделись с Мардонием за эти недели – но Валент, навещавший их в доме нового господина, говорил, что и сыну тоже нашел хорошее место. София не смела спрашивать – и не желала знать, на самом деле, что это значит. Она крестилась и молилась, чтобы сохранить перед лицом врага хотя бы остатки своей чести и чести семьи.
И София все еще уповала на спасение, даже в таком заточении, - для нее надежды было все же больше, чем для сестры и брата! Пусть надежда и таяла с каждым днем.
Re: Ставрос
Глава 96
Ярослав Игоревич уцелел, даже поправившись и вернув себе силу.
Как и другие его спасшиеся товарищи, он первое время после победы султана жил во дворце – воины оправлялись от ран в своих казармах и служебных помещениях. В числе раненых, сдавшихся в плен, были остатки гвардии и войска Константина Палеолога, в котором много было простых горожан, в первый раз взявших в руки оружие в дни гибели и последней славы Константинополя. Во дворце немало задержалось и других христиан, не только греков: и от них не требовали отречься от веры и присягнуть на верность султану. Казалось, об этой жалкой горстке побежденных просто забыли – греческие врачи равно заботились о бывших подданных Константина и о раненых и недужных турках, слугах повелителя правоверных. Все эти простые солдаты и прислужники ели то, что осталось в кладовых Города после осады, - низшие в дни войны равно сидели голодом; случалось, турки-победители даже оделяли хлебом побежденных, с которыми лежали рядом на грязных, полных клопов тюфяках и с которыми вместе мучились от ран и болезней.
Среди победительных воинов султана, светоча мира, оказались также и славяне – хотя русских почти не было. Русские этериоты не понимали их языков.
Евдокия Хрисанфовна навещала мужа – но редко; Ярослав Игоревич сам гневно отверг заботы жены, сказав, что поправится и сам с Божьей помощью. А ей, если она будет часто покидать женские комнаты, не миновать позора от поганых – у них ведь жены за людей не считаются! Он никогда себе не простит, если узнает, что Евдокии Хрисанфовне нанесли какую-нибудь обиду по его вине.
О названом отце ревностно заботился Микитка, презиравший все опасности; впрочем, молодого красивого русского евнуха, с необыкновенным лицом – суровым и будто светящимся, - не смели трогать даже те, кто был лаком до юношей и евнухов. А среди турок таких было еще больше, чем среди греков.
Но Микитка, столько испытавший и передумавший за свою девственную жизнь, теперь вызывал к себе почтение, которое трудно было объяснить. Его словно окружил незримый ореол православного монаха, призванного к служению самим Богом, – хотя Микитка никогда не стремился к монашеству и очень сожалел о своем уродстве. Но, наверное, христианские подвиги, как и искусы, бывали разные. Микитка знал теперь, что такие подвиги разнились больше, чем мог вообразить человеческий ум, - и один Бог ведал, что назвать подвигом, а что прегрешением, и мог разделить то и другое в Своей руке. Людям такой способности – отделять зерна от плевел - было дано ничтожно мало.
Может, зорче других была Евдокия Хрисанфовна. Ярослав Игоревич вскоре после того, как начал ходить, пошел посоветоваться к жене – об их положении и о том, что делать дальше.
Евдокия Хрисанфовна сидела у себя в комнате с маленьким сыном и пряла красную нить – прялка была та самая, что сохранилась у московитки от дней, проведенных в плену у Феофано со старшим и единственным тогда сыном. Казалось, даже нитку она свивала ту же самую – не разорвав, не обрезав!
Увидев супруга, ключница подняла глаза – и, хотя сразу почуяла и узнала его, несколько мгновений глядела будто бы сквозь мужа; Ярослав Игоревич даже испугался такого всепроницающего взгляда. Потом Евдокия Хрисанфовна улыбнулась и встала; выражение тут же сделалось человеческим, женским. Она подошла к мужу, и они обнялись – осторожно, чтобы не тревожить его ран.
- Ну вот и слава богу, - сказала Евдокия Хрисанфовна. – Поправился мой князь.
Они взялись за руки и несколько мгновений радостно улыбались, глядя друг другу в глаза и не находя слов, - потом еще раз обнялись и поцеловались. Потом Евдокия Хрисанфовна подвела мужа к скамье и усадила. Она кивнула на Владимира, который играл рядом на полу.
- Посмотри, каков стал…
Она знала, что Ярослав Игоревич подойдет и приголубит сына – но потом, когда выскажет, что наболело на душе. Он ведь хотел с ней говорить о важном деле!
Евдокия Хрисанфовна села обратно в кресло, но прялку в руки не взяла. Она внимательно смотрела на мужа.
- Ну, рассказывай…
Ярослав Игоревич потупился.
- Дуня, - глухо сказал он. – Я много передумал, пока лежал…
- Тогда только и подумать, - кивнула жена.
Ярослав Игоревич посмотрел на свою замотанную руку.
- Со мной рядом турок лежал… Мирза, без тебя его принесли. Уже после победы его на улице побили, - сказал дружинник, подкручивая длинный ус: словно бы рассеянно, припоминая этого человека. – Весь порубленный, ночами в горячке метался. Думали, не жить ему. А когда очнулся, вдруг начал со всеми разговаривать – и мне давай жаловаться, будто я ему брат!
Ярослав Игоревич усмехнулся; но только печально, без злости. Евдокия Хрисанфовна замерла, глядя на мужа.
- И что же? – спросила она.
- Что же, Евдокия Хрисанфовна, - вздохнул старший дружинник. – Выходило по словам этого Мирзы так, будто его силком на эту войну погнали, будто он вовсе не хотел бить гречин и сажать султана в Царьграде, а лучше бы дома жил, с женой и детьми…
- У него одна жена? – быстро спросила ключница.
Муж кивнул.
- Говорил, что тоскует по ней… ночами видит…
- Что ж, такое его солдатское дело, - спокойно ответила Евдокия Хрисанфовна.
Она помолчала.
- Ты ведь не об этом первым делом хотел сказать… хотел спросить меня, как нам теперь быть? Усомнился – враги ли нам турки?
Ярослав Игоревич кивнул, мучаясь тем, что не выходило на язык без помощи жены.
Евдокия Хрисанфовна встала со своего кресла и подошла к мужу – она посмотрела ему в глаза ясно и строго.
- А в этом, мой князь, - сказала она, - и не думай сомневаться. Враги, враги и есть! Среди слуг султана бывают товарищи и добрые люди, - продолжала она, прежде чем Ярослав Игоревич прервал ее. – Но такое добро для нас - самая бесовская прелесть… Среди турок нам те товарищи, кто на нас похож, - а таких мало… и товарищи они русским людям лишь пока им бедно и голодно! Все люди дружатся в такое время!
Евдокия Хрисанфовна улыбнулась.
- Мирза твой, говоришь, по жене тоскует? Ее он долго не увидит, если приведется еще встретиться, - ну так здесь он себе и другую возьмет: обеих любить будет… Им можно, и сам Аллах так велит…
Ярославу Игоревичу второй раз жутко стало от выражения лица и глаз жены. Дружинник отвел взгляд, покаянно вздохнул – он ведь чуть было не дал себя обольстить!
- Что же нам теперь делать? Здесь ведь нельзя оставаться!
- Во дворце никак нельзя. Здесь погибель, не сегодня – так завтра, - кивнула Евдокия Хрисанфовна. – Нужно поразведать в Городе, куда податься. Христиан тут еще много осталось, султан им, по первости щедрот, даже целые кварталы подарил. Микитушка наш может походить и посмотреть… его не тронут. Он теперь лучше монаха стал: куда взглянет, все бесы разбегаются…
Она перекрестилась, как мать лучше других ощущая то особенное впечатление, которое производил теперь на всех ее старший сын.
Евдокия Хрисанфовна помолчала.
- Султан страшен, - сказала она. – Он ненадолго успокоился, ему теперь всегда мало будет, пока он не захлебнется чужой кровью. Страшнее всего те, кто смолоду прославился – и не своими трудами, а храбростью и муками вот таких, как твой Мирза! А те, кто проливает чужую кровь, а не свою, самые ненасытные!
Она взглянула на угнетенного мужа.
- Нужно уходить, Ярославушка, пока нас не прижали. А нас скоро прижмут: турчины из всех христиан особенно не любят русских людей, и русскую веру нам не спускают. Пока только турецкие господа еще друг с другом не разобрались, самые сладкие куски не поделили – вот и не вспоминают про нас…
Она вздохнула.
- И тебе ведь скоро придется опять служить – ты у нас не турчин и не господин, и с тебя скоро спросят, не даром ли хлеб ешь! А здесь, во дворце, нашим цезарем теперь Мехмед…
- Кругом твоя правда, - вздохнул муж.
Он сказал:
- Что ж, и в самом деле пошлем Микитушку походить и посмотреть. Он у нас такой разумник, лучше меня!
Микитка сразу согласился пойти посмотреть. Ему и самому давно хотелось выйти в город – но мать запрещала попусту рисковать; он и сам понимал ее правоту. Но теперь такая нужда появилась.
Он пришел к матери, прежде чем покинуть дворец, - уже это было опасно: хотя пока бывшего постельничего Константина выпускали и впускали свободно. Однако Микитка мало походил теперь на евнуха, каких привыкли видеть греки, - он подпоясал веревкой свое распашное длинное одеяние, и, сковав такой одеждой себе ноги, ходил со степенностью священнослужителя. Волосы, прежде короткие, Микитка отпустил и зачесывал со лба и висков, приглаживая лампадным маслом.
Мать с любовью и болью посмотрела на сына – такого даже рука не поднималась благословлять! Но все же она благословила; а Микитка принял ее напутствие, склонив голову.
- Помогай Господь, - сказала Евдокия Хрисанфовна. – Ступай, Микитушка.
Сын молча поклонился ей в пояс – и, повернувшись, вышел: почти неслышно, но скоро ступая.
Микитка вышел, зная, что подгадал со временем, – на улицах было довольно малолюдно, несмотря на то, что Царьград наводнили победители: наступил час молитвы. Константинополь еще прежде турок оскудел греками – а турки были намного более послушны закону своей веры, чем греки: обрядность у них была на первом месте. Теперь они собрались в молитвенных местах. Кто мог, пошел и в мечеть – мечеть в Стамбуле была пока только одна, но какая! Краса всего мира! Мехмед сделал не по годам умно – он готовой перенял славу, которую греки добывали себе и преумножали многие сотни лет!
Микитка посмотрел на златоверхую Софию, лишенную креста, - и перекрестил собор, а не себя.
- Чтоб вас всех прижало там, как вы нас, - пробормотал он, думая о тех, кто сейчас приникал лбом к драгоценным мозаичным образам на полу храма, бормоча свои дьявольские молитвы.
Бывший паракимомен загодя решил, куда пойдет, - в итальянские кварталы. Теперь католики и православные в городе оказались в одинаковом положении: и еще вопрос – кому пришлось хуже, податливым грекам или непримиримым детям Рима!
Микитке очень повезло: он не только пересек Стамбул безопасно, но и сумел расположить к себе одного из итальянских купцов, которые еще до победы Мехмеда держали у себя рабов-славян. Итальянцы удержались в Константинополе, несмотря на победу турок, - а может, и благодаря ей: эти мореплаватели, поставщики нужнейших западных товаров и дипломаты были особенно нужны султану, чтобы закрепить свои позиции.
Но Микитку итальянец принял благосклонно, даже сочувственно, - и, выслушав его повесть, тут же пленился словами о русских этериотах, оставшихся без господина. Не один только император Константин испытал верность, стойкость и неприхотливость русских воинов.
Купец безусловно согласился принять к себе в охранители Ярослава Игоревича и тех его товарищей, кто пошел бы; он угостил Микитку фруктами в меду, каких тот и не помнил, когда ел, и звал вернуться вместе с Ярославом Игоревичем и матерью.
Когда Микитка ушел, радость окрыляла его; но скоро сменилась мучительными сомнениями. Он слишком хорошо помнил, с чего началась его рабская жизнь в Константинополе; не ладил ли этот католик тоже обмануть их, как тот Марио Феличе?
Но нельзя никому на свете не иметь веры… и уж, как ни поверни, им сейчас лучше этот итальянец, чем султан!
- Пока мы в Царьграде, - прошептал Микитка. – Итальянцы сильны на море… и у себя дома; но здесь их связал Мехмед. Здесь пока нам служить католикам и сидеть в их кварталах лучше, чем быть на глазах у султана!
Он пошел назад во дворец – теперь улицы оживились, и приходилось зорко смотреть по сторонам. Несколько раз Микитка шарахался, уступая дорогу спесивым всадникам, которые нарочно не смотрели, куда едут: в чалмах с алмазными аграфами, в усыпанных каменьями одеждах. Дважды навстречу попались носилки под сильной охраной. На глазах у Микитки стражник с отвратительной бранью сшиб с ног нищего грека, который протянул было к носилкам руку за подаянием; и Микитке вдруг показалось, что желтый вышитый полог паланкина взволновался и мелькнула тонкая женская смуглая рука с накрашенными ногтями, унизанная браслетами…
"Женщина! А может, это и вовсе гречанка?" - мелькнула у Микитки поразительная мысль. Но задумываться было некогда: он отбежал в сторону, пока его тоже не зашибли.
Когда носилки проехали, евнух утер пот со лба и даже на миг позавидовал той, что сидела внутри на подушках: ей хотя бы не жарко.
Он пошел дальше, и благополучно добрался до Большого дворца; и там обрадовал домашних своими вестями.
Ярослав Игоревич с женой долго совещались – но под конец положили принять предложение купца. А не то они могут опоздать: сейчас занимают все пустые места, что турки, что побежденные!
Ярослав Игоревич с женой, детьми и троими товарищами перебрался в итальянский квартал, когда достаточно окреп для воинской службы. Для этого понадобилась еще неделя.
А в один из дней, когда они уже устроились на новом месте, Микитку послали во Влахерны, кое-чего купить и кое-кому молвить слово; он теперь был у купца подручным, и сметливый хозяин, будто бы вместе с отцом и матерью уверовав в неприкосновенность молодого евнуха, посылал его в такие места, куда не столь охотно отправился бы сам.
- Меня в Константинополе знают, - говорил католик. – Меня могут побить; а тебя не знают и не тронут, мой храбрый русский юноша!
Микитка, однако, знал, что тоже приобрел себе в Городе славу – маленькую, но неугасимую. Паракимомен императора наделал в Константинополе шуму в свое время, и именно среди католиков... Хорошо, что хоть нынешний хозяин не прослышал, – а может, он все знал и молчал?
- Нет здесь Феофано! Уж она бы решила! – воскликнул Микитка вслух, остановившись посреди улицы: мешая и туркам, и грекам.
Он говорил по-гречески, как нередко сейчас изъяснялся, даже забываясь, - но никак не ожидал, что его слова услышат и поймут.
- Ты знаешь Феофано? – спросил его по-гречески же высокий голос совсем рядом. Голос юноши, даже мальчика!
Микитка вздрогнул и быстро повернулся, сжав кулаки; прищурив глаза, он оглядел незнакомого мальчишку. Молодой евнух приготовился защищаться, еще не рассмотрев противника; сердце у него отчаянно стучало, на висках и лбу выступил холодный пот, несмотря на жару.
- Кто ты такой? – воскликнул он.
Юный грек, остановивший его, был на голову ниже Микитки и на вид раза в два слабее; но разве это сейчас важно?
Мальчишка – лет одиннадцати или чуть старше - был добротно, даже богато одет: в алые шаровары и поверх белой, тонкого полотна рубашки длинную шелковую распашную одежду, вроде тех, какие Микитка носил при императоре. Черные волосы мальчика свободно спадали на плечи, а нежное лицо, хотя и очень смуглое, несомненно, берегли от солнца. Несмотря на то, что голова его была не обрита и не покрыта, Микитка сразу почуял врага. Так хорошо жить в Городе сейчас могли только враги!
Услышав восклицание евнуха, юный грек свел черные, словно кистью наведенные брови; и в больших черных глазах сверкнула какая-то надменность, совсем не по летам.
- Сперва ответь мне, кто ты - и откуда знаешь Феофано, - приказал он.
Микитка поднял голову. Ну нет: врешь, не возьмешь.
- Ты надо мной не старший, будь у тебя в господах хоть сам султан, - сказал он, насупив брови. – И на голос меня не бери!
Он хотел отстранить наглого мальчишку рукой и двинуться дальше; но тот вдруг поймал Микитку за рукав. Надменность неожиданно сменилась мольбой.
- Ты тавроскиф… русский, - проговорил незнакомый юный турецкий баловень. – Я сразу понял! Я прошу тебя: расскажи, как ты познакомился с царицей Феофано, мне это очень нужно знать!
- Понял уже, что очень нужно, - проворчал Микитка.
Он вздохнул. Ну и как теперь быть?
- Давай по очереди, - сказал он, решившись на этот, может быть, очень опасный разговор. – И ты начинай, представься хотя бы, коли уж просишь!
- Согласен, - ответил мальчик.
Ярослав Игоревич уцелел, даже поправившись и вернув себе силу.
Как и другие его спасшиеся товарищи, он первое время после победы султана жил во дворце – воины оправлялись от ран в своих казармах и служебных помещениях. В числе раненых, сдавшихся в плен, были остатки гвардии и войска Константина Палеолога, в котором много было простых горожан, в первый раз взявших в руки оружие в дни гибели и последней славы Константинополя. Во дворце немало задержалось и других христиан, не только греков: и от них не требовали отречься от веры и присягнуть на верность султану. Казалось, об этой жалкой горстке побежденных просто забыли – греческие врачи равно заботились о бывших подданных Константина и о раненых и недужных турках, слугах повелителя правоверных. Все эти простые солдаты и прислужники ели то, что осталось в кладовых Города после осады, - низшие в дни войны равно сидели голодом; случалось, турки-победители даже оделяли хлебом побежденных, с которыми лежали рядом на грязных, полных клопов тюфяках и с которыми вместе мучились от ран и болезней.
Среди победительных воинов султана, светоча мира, оказались также и славяне – хотя русских почти не было. Русские этериоты не понимали их языков.
Евдокия Хрисанфовна навещала мужа – но редко; Ярослав Игоревич сам гневно отверг заботы жены, сказав, что поправится и сам с Божьей помощью. А ей, если она будет часто покидать женские комнаты, не миновать позора от поганых – у них ведь жены за людей не считаются! Он никогда себе не простит, если узнает, что Евдокии Хрисанфовне нанесли какую-нибудь обиду по его вине.
О названом отце ревностно заботился Микитка, презиравший все опасности; впрочем, молодого красивого русского евнуха, с необыкновенным лицом – суровым и будто светящимся, - не смели трогать даже те, кто был лаком до юношей и евнухов. А среди турок таких было еще больше, чем среди греков.
Но Микитка, столько испытавший и передумавший за свою девственную жизнь, теперь вызывал к себе почтение, которое трудно было объяснить. Его словно окружил незримый ореол православного монаха, призванного к служению самим Богом, – хотя Микитка никогда не стремился к монашеству и очень сожалел о своем уродстве. Но, наверное, христианские подвиги, как и искусы, бывали разные. Микитка знал теперь, что такие подвиги разнились больше, чем мог вообразить человеческий ум, - и один Бог ведал, что назвать подвигом, а что прегрешением, и мог разделить то и другое в Своей руке. Людям такой способности – отделять зерна от плевел - было дано ничтожно мало.
Может, зорче других была Евдокия Хрисанфовна. Ярослав Игоревич вскоре после того, как начал ходить, пошел посоветоваться к жене – об их положении и о том, что делать дальше.
Евдокия Хрисанфовна сидела у себя в комнате с маленьким сыном и пряла красную нить – прялка была та самая, что сохранилась у московитки от дней, проведенных в плену у Феофано со старшим и единственным тогда сыном. Казалось, даже нитку она свивала ту же самую – не разорвав, не обрезав!
Увидев супруга, ключница подняла глаза – и, хотя сразу почуяла и узнала его, несколько мгновений глядела будто бы сквозь мужа; Ярослав Игоревич даже испугался такого всепроницающего взгляда. Потом Евдокия Хрисанфовна улыбнулась и встала; выражение тут же сделалось человеческим, женским. Она подошла к мужу, и они обнялись – осторожно, чтобы не тревожить его ран.
- Ну вот и слава богу, - сказала Евдокия Хрисанфовна. – Поправился мой князь.
Они взялись за руки и несколько мгновений радостно улыбались, глядя друг другу в глаза и не находя слов, - потом еще раз обнялись и поцеловались. Потом Евдокия Хрисанфовна подвела мужа к скамье и усадила. Она кивнула на Владимира, который играл рядом на полу.
- Посмотри, каков стал…
Она знала, что Ярослав Игоревич подойдет и приголубит сына – но потом, когда выскажет, что наболело на душе. Он ведь хотел с ней говорить о важном деле!
Евдокия Хрисанфовна села обратно в кресло, но прялку в руки не взяла. Она внимательно смотрела на мужа.
- Ну, рассказывай…
Ярослав Игоревич потупился.
- Дуня, - глухо сказал он. – Я много передумал, пока лежал…
- Тогда только и подумать, - кивнула жена.
Ярослав Игоревич посмотрел на свою замотанную руку.
- Со мной рядом турок лежал… Мирза, без тебя его принесли. Уже после победы его на улице побили, - сказал дружинник, подкручивая длинный ус: словно бы рассеянно, припоминая этого человека. – Весь порубленный, ночами в горячке метался. Думали, не жить ему. А когда очнулся, вдруг начал со всеми разговаривать – и мне давай жаловаться, будто я ему брат!
Ярослав Игоревич усмехнулся; но только печально, без злости. Евдокия Хрисанфовна замерла, глядя на мужа.
- И что же? – спросила она.
- Что же, Евдокия Хрисанфовна, - вздохнул старший дружинник. – Выходило по словам этого Мирзы так, будто его силком на эту войну погнали, будто он вовсе не хотел бить гречин и сажать султана в Царьграде, а лучше бы дома жил, с женой и детьми…
- У него одна жена? – быстро спросила ключница.
Муж кивнул.
- Говорил, что тоскует по ней… ночами видит…
- Что ж, такое его солдатское дело, - спокойно ответила Евдокия Хрисанфовна.
Она помолчала.
- Ты ведь не об этом первым делом хотел сказать… хотел спросить меня, как нам теперь быть? Усомнился – враги ли нам турки?
Ярослав Игоревич кивнул, мучаясь тем, что не выходило на язык без помощи жены.
Евдокия Хрисанфовна встала со своего кресла и подошла к мужу – она посмотрела ему в глаза ясно и строго.
- А в этом, мой князь, - сказала она, - и не думай сомневаться. Враги, враги и есть! Среди слуг султана бывают товарищи и добрые люди, - продолжала она, прежде чем Ярослав Игоревич прервал ее. – Но такое добро для нас - самая бесовская прелесть… Среди турок нам те товарищи, кто на нас похож, - а таких мало… и товарищи они русским людям лишь пока им бедно и голодно! Все люди дружатся в такое время!
Евдокия Хрисанфовна улыбнулась.
- Мирза твой, говоришь, по жене тоскует? Ее он долго не увидит, если приведется еще встретиться, - ну так здесь он себе и другую возьмет: обеих любить будет… Им можно, и сам Аллах так велит…
Ярославу Игоревичу второй раз жутко стало от выражения лица и глаз жены. Дружинник отвел взгляд, покаянно вздохнул – он ведь чуть было не дал себя обольстить!
- Что же нам теперь делать? Здесь ведь нельзя оставаться!
- Во дворце никак нельзя. Здесь погибель, не сегодня – так завтра, - кивнула Евдокия Хрисанфовна. – Нужно поразведать в Городе, куда податься. Христиан тут еще много осталось, султан им, по первости щедрот, даже целые кварталы подарил. Микитушка наш может походить и посмотреть… его не тронут. Он теперь лучше монаха стал: куда взглянет, все бесы разбегаются…
Она перекрестилась, как мать лучше других ощущая то особенное впечатление, которое производил теперь на всех ее старший сын.
Евдокия Хрисанфовна помолчала.
- Султан страшен, - сказала она. – Он ненадолго успокоился, ему теперь всегда мало будет, пока он не захлебнется чужой кровью. Страшнее всего те, кто смолоду прославился – и не своими трудами, а храбростью и муками вот таких, как твой Мирза! А те, кто проливает чужую кровь, а не свою, самые ненасытные!
Она взглянула на угнетенного мужа.
- Нужно уходить, Ярославушка, пока нас не прижали. А нас скоро прижмут: турчины из всех христиан особенно не любят русских людей, и русскую веру нам не спускают. Пока только турецкие господа еще друг с другом не разобрались, самые сладкие куски не поделили – вот и не вспоминают про нас…
Она вздохнула.
- И тебе ведь скоро придется опять служить – ты у нас не турчин и не господин, и с тебя скоро спросят, не даром ли хлеб ешь! А здесь, во дворце, нашим цезарем теперь Мехмед…
- Кругом твоя правда, - вздохнул муж.
Он сказал:
- Что ж, и в самом деле пошлем Микитушку походить и посмотреть. Он у нас такой разумник, лучше меня!
Микитка сразу согласился пойти посмотреть. Ему и самому давно хотелось выйти в город – но мать запрещала попусту рисковать; он и сам понимал ее правоту. Но теперь такая нужда появилась.
Он пришел к матери, прежде чем покинуть дворец, - уже это было опасно: хотя пока бывшего постельничего Константина выпускали и впускали свободно. Однако Микитка мало походил теперь на евнуха, каких привыкли видеть греки, - он подпоясал веревкой свое распашное длинное одеяние, и, сковав такой одеждой себе ноги, ходил со степенностью священнослужителя. Волосы, прежде короткие, Микитка отпустил и зачесывал со лба и висков, приглаживая лампадным маслом.
Мать с любовью и болью посмотрела на сына – такого даже рука не поднималась благословлять! Но все же она благословила; а Микитка принял ее напутствие, склонив голову.
- Помогай Господь, - сказала Евдокия Хрисанфовна. – Ступай, Микитушка.
Сын молча поклонился ей в пояс – и, повернувшись, вышел: почти неслышно, но скоро ступая.
Микитка вышел, зная, что подгадал со временем, – на улицах было довольно малолюдно, несмотря на то, что Царьград наводнили победители: наступил час молитвы. Константинополь еще прежде турок оскудел греками – а турки были намного более послушны закону своей веры, чем греки: обрядность у них была на первом месте. Теперь они собрались в молитвенных местах. Кто мог, пошел и в мечеть – мечеть в Стамбуле была пока только одна, но какая! Краса всего мира! Мехмед сделал не по годам умно – он готовой перенял славу, которую греки добывали себе и преумножали многие сотни лет!
Микитка посмотрел на златоверхую Софию, лишенную креста, - и перекрестил собор, а не себя.
- Чтоб вас всех прижало там, как вы нас, - пробормотал он, думая о тех, кто сейчас приникал лбом к драгоценным мозаичным образам на полу храма, бормоча свои дьявольские молитвы.
Бывший паракимомен загодя решил, куда пойдет, - в итальянские кварталы. Теперь католики и православные в городе оказались в одинаковом положении: и еще вопрос – кому пришлось хуже, податливым грекам или непримиримым детям Рима!
Микитке очень повезло: он не только пересек Стамбул безопасно, но и сумел расположить к себе одного из итальянских купцов, которые еще до победы Мехмеда держали у себя рабов-славян. Итальянцы удержались в Константинополе, несмотря на победу турок, - а может, и благодаря ей: эти мореплаватели, поставщики нужнейших западных товаров и дипломаты были особенно нужны султану, чтобы закрепить свои позиции.
Но Микитку итальянец принял благосклонно, даже сочувственно, - и, выслушав его повесть, тут же пленился словами о русских этериотах, оставшихся без господина. Не один только император Константин испытал верность, стойкость и неприхотливость русских воинов.
Купец безусловно согласился принять к себе в охранители Ярослава Игоревича и тех его товарищей, кто пошел бы; он угостил Микитку фруктами в меду, каких тот и не помнил, когда ел, и звал вернуться вместе с Ярославом Игоревичем и матерью.
Когда Микитка ушел, радость окрыляла его; но скоро сменилась мучительными сомнениями. Он слишком хорошо помнил, с чего началась его рабская жизнь в Константинополе; не ладил ли этот католик тоже обмануть их, как тот Марио Феличе?
Но нельзя никому на свете не иметь веры… и уж, как ни поверни, им сейчас лучше этот итальянец, чем султан!
- Пока мы в Царьграде, - прошептал Микитка. – Итальянцы сильны на море… и у себя дома; но здесь их связал Мехмед. Здесь пока нам служить католикам и сидеть в их кварталах лучше, чем быть на глазах у султана!
Он пошел назад во дворец – теперь улицы оживились, и приходилось зорко смотреть по сторонам. Несколько раз Микитка шарахался, уступая дорогу спесивым всадникам, которые нарочно не смотрели, куда едут: в чалмах с алмазными аграфами, в усыпанных каменьями одеждах. Дважды навстречу попались носилки под сильной охраной. На глазах у Микитки стражник с отвратительной бранью сшиб с ног нищего грека, который протянул было к носилкам руку за подаянием; и Микитке вдруг показалось, что желтый вышитый полог паланкина взволновался и мелькнула тонкая женская смуглая рука с накрашенными ногтями, унизанная браслетами…
"Женщина! А может, это и вовсе гречанка?" - мелькнула у Микитки поразительная мысль. Но задумываться было некогда: он отбежал в сторону, пока его тоже не зашибли.
Когда носилки проехали, евнух утер пот со лба и даже на миг позавидовал той, что сидела внутри на подушках: ей хотя бы не жарко.
Он пошел дальше, и благополучно добрался до Большого дворца; и там обрадовал домашних своими вестями.
Ярослав Игоревич с женой долго совещались – но под конец положили принять предложение купца. А не то они могут опоздать: сейчас занимают все пустые места, что турки, что побежденные!
Ярослав Игоревич с женой, детьми и троими товарищами перебрался в итальянский квартал, когда достаточно окреп для воинской службы. Для этого понадобилась еще неделя.
А в один из дней, когда они уже устроились на новом месте, Микитку послали во Влахерны, кое-чего купить и кое-кому молвить слово; он теперь был у купца подручным, и сметливый хозяин, будто бы вместе с отцом и матерью уверовав в неприкосновенность молодого евнуха, посылал его в такие места, куда не столь охотно отправился бы сам.
- Меня в Константинополе знают, - говорил католик. – Меня могут побить; а тебя не знают и не тронут, мой храбрый русский юноша!
Микитка, однако, знал, что тоже приобрел себе в Городе славу – маленькую, но неугасимую. Паракимомен императора наделал в Константинополе шуму в свое время, и именно среди католиков... Хорошо, что хоть нынешний хозяин не прослышал, – а может, он все знал и молчал?
- Нет здесь Феофано! Уж она бы решила! – воскликнул Микитка вслух, остановившись посреди улицы: мешая и туркам, и грекам.
Он говорил по-гречески, как нередко сейчас изъяснялся, даже забываясь, - но никак не ожидал, что его слова услышат и поймут.
- Ты знаешь Феофано? – спросил его по-гречески же высокий голос совсем рядом. Голос юноши, даже мальчика!
Микитка вздрогнул и быстро повернулся, сжав кулаки; прищурив глаза, он оглядел незнакомого мальчишку. Молодой евнух приготовился защищаться, еще не рассмотрев противника; сердце у него отчаянно стучало, на висках и лбу выступил холодный пот, несмотря на жару.
- Кто ты такой? – воскликнул он.
Юный грек, остановивший его, был на голову ниже Микитки и на вид раза в два слабее; но разве это сейчас важно?
Мальчишка – лет одиннадцати или чуть старше - был добротно, даже богато одет: в алые шаровары и поверх белой, тонкого полотна рубашки длинную шелковую распашную одежду, вроде тех, какие Микитка носил при императоре. Черные волосы мальчика свободно спадали на плечи, а нежное лицо, хотя и очень смуглое, несомненно, берегли от солнца. Несмотря на то, что голова его была не обрита и не покрыта, Микитка сразу почуял врага. Так хорошо жить в Городе сейчас могли только враги!
Услышав восклицание евнуха, юный грек свел черные, словно кистью наведенные брови; и в больших черных глазах сверкнула какая-то надменность, совсем не по летам.
- Сперва ответь мне, кто ты - и откуда знаешь Феофано, - приказал он.
Микитка поднял голову. Ну нет: врешь, не возьмешь.
- Ты надо мной не старший, будь у тебя в господах хоть сам султан, - сказал он, насупив брови. – И на голос меня не бери!
Он хотел отстранить наглого мальчишку рукой и двинуться дальше; но тот вдруг поймал Микитку за рукав. Надменность неожиданно сменилась мольбой.
- Ты тавроскиф… русский, - проговорил незнакомый юный турецкий баловень. – Я сразу понял! Я прошу тебя: расскажи, как ты познакомился с царицей Феофано, мне это очень нужно знать!
- Понял уже, что очень нужно, - проворчал Микитка.
Он вздохнул. Ну и как теперь быть?
- Давай по очереди, - сказал он, решившись на этот, может быть, очень опасный разговор. – И ты начинай, представься хотя бы, коли уж просишь!
- Согласен, - ответил мальчик.
Re: Ставрос
Глава 97
Имя Мардония Аммония, - как со странной смесью гордости и стыда назвался мальчишка, - сразу же показалось Микитке знакомым. Они зашли в какую-то таверну, полную чада и всякого сброда, совершенно как в греческие времена; и там Мардоний, с выражением природного господина, заказал им по стакану прохладительного напитка. Он кинул на прилавок несколько монет, казалось, не глядя и не считая...
И тут Микитку будто молнией ударило. Он вспомнил, где слышал эту ромейскую фамилию, - Аммонием величали мужа Феофано! Как по-настоящему звали эту царицу, он так и не узнал: но, должно быть, он и Мардоний каждый знали о Феофано важные вещи, неизвестные другому.
Микитка почти не пил, глядя во все глаза на собеседника, - хотя шербет был очень вкусный и в другое время он проглотил бы его одним махом. Мардоний тоже пил маленькими глотками, не поднимая глаз; даже в дыму от жаренья и копченья было видно, что щеки его пылают. Юный грек чего-то очень стыдился и от чего-то страдал – но это не помешало бы ему обернуться врагом.
Сам Микитка уже сказал о себе несколько слов: не обмолвившись, конечно, о своем увечье, он сказал, что попал в плен к ромеям вместе со своей матерью, которая уже здесь вышла замуж за царского дружинника. Этого, собственно, и нечего было скрывать. О Феофано он молчал – сторожко выжидая, как ответит Мардоний.
Пока Микитка ждал, он начал вдруг догадываться, чего стыдится юный грек; и на несколько мгновений его самого охватили горячая жалость и стыд, от которых он чуть не вскочил из-за стола. Не худшую ли тайну, чем его собственная, скрывал Мардоний Аммоний – этот потомок знатного византийского рода?
И ведь если бы Феофано тогда пошла против сердца, а ее охранитель Марк выдал их Никифору Флатанелосу, Микитку могла бы ожидать такая же участь, как Мардония! Никакая собственная стойкость его не спасла бы! Бог беду отвел; и надо же помочь и этому несчастному, если Микитка верно догадался, что он турецкий наложник…
Однако несчастный мальчишка с такою же легкостью мог оказаться лгуном и подсылом – подсылом кого-нибудь из могущественных врагов Феофано, который теперь жаждал расправиться с нею или захватить ее в плен! Микитка, как и многие, был наслышан о подвигах этой необыкновенной гречанки; и знал, что для турок, – как и для немалого числа католиков, - победить Феофано будет почти как свалить Софийский крест. Царица амазонок, как ее называли теперь, воплотила в себе и явила современникам древние свойства греческого духа - память о геройстве предков…
И Микитка решился.
- Ты родственник Феофано, я понял, - хрипловато от волнения сказал он. Мардоний вскинул изумленные глаза. – Тебе нужна какая-то помощь от этой госпожи, я угадал? – спросил евнух, пока Мардоний не опомнился.
Юный грек кивнул.
- Я ей сродни, - ответил он. Натянув на пальцы свои роскошные рукава, он принялся теребить их. – Мой отец – брат ее покойного мужа, и теперь сторонник султана Мехмеда. Один из самых верных… хотя передался в числе последних.
Когда Мардоний заговорил, он показался взрослее своих лет, и взрослее своего возраста он изъяснялся: как сам Микитка, которого в самые нежные годы ввергли в несчастья. Сострадание вновь овладело сердцем евнуха.
Потом, когда он вполне осознал сказанное, сочувствие опять сменило огромное изумление – и осознание невольной причастности к каким-то великим делам, которое Микитка испытывал, когда Феофано использовала его в своих целях…
- Я едва ли тебе помогу, - сказал евнух в наступившей тишине. – Ты сейчас платил за нас обоих, а я… Был постельничим императора, но что имел, когда меня с матерью захватили, с тем и остался: гол как сокол.
Он развел руками. Мардоний слабо улыбнулся.
- Я знаю, что ты почти ничего не можешь, и позвал тебя потому, что… Глупая надежда!
Микитка кивнул: он очень хорошо понимал такое чувство, отчаянную нужду в друге. Если Мардоний не лгал. А может, Микитка напомнил этому последышу рода Аммониев о русской женщине, с которой была дружна Феофано – и с которой, по слухам, она была в блудной связи… Хотя для древних греков это было законно и свято. Уж как ни крути, лучше, чем мальчишке подставлять зад турецкому паше – или, может, самому султану? Микитка давно знал о гареме мальчиков, который постоянно пополнял Мехмед!
Он ощутил, что сам краснеет под взглядом Мардония, и отвел глаза. Юный грек тяжело вздохнул.
- Я сейчас живу под покровительством Гали-бея, - сказал он, постучав пальцами по столу. – Это один из храбрых офицеров султана, который здесь, в Константинополе, поддерживает градоначальника, Ибрахима-пашу. Люди Гали-бея служат в городской страже, и они здесь повсюду…
Мардоний сглотнул; и тут только Микитка осознал, в какой опасности они оба прямо сейчас. Кто мог видеть, как они зашли в таверну?..
Он перекрестился; и Мардоний вздрогнул, сердитое выражение мелькнуло на его лице.
- Думай, что делаешь! – шепотом воскликнул мальчик.
Микитка сжал руку в кулак; другой сжал свой зеленый стеклянный стакан так, что тот чуть не треснул.
- Ты мусульманин? – очень тихо спросил он.
Мардоний встрепенулся.
- Разве сидел бы я здесь с тобой, будь это так! – горячо воскликнул он.
Микитка сжал губы. Как раз мусульманин и мог бы сидеть и обольщать; но тут он подумал, что, должно быть, переоценивает хитрость своего собеседника. Ведь ему не больше двенадцати лет, и он никак не сможет одолеть словом старшего! Ему бы такого и не поручили!
Мардоний вдруг протянул Микитке руку через стол, и ошеломленный евнух сжал ее. Он ощутил, какая нежная у сына Аммония кожа, по сравнению с его собственной жесткой рукой.
- Я скоро стану мусульманином, - звенящим шепотом проговорил мальчик. – И тогда… Тогда меня опозорят, потому что это станет законно для мусульман! У них и наложники должны быть турецкой веры!
Микитка понимал, что этот юный греческий аристократ ни в жизнь бы не признался в таком унижении русскому рабу, - если бы не дошел до края. Господи, что же творится?..
Пришел конец света, сказала мать…
- Но ведь, кажется, турецкая вера это запрещает? – осторожно спросил Микитка. Он как будто бы слышал, что магометане, как и христиане, такую погань запрещают.
Мардоний в ответ печально рассмеялся.
- Да кто на это смотрит? – спросил он.
Микитка кивнул. Греки мало смотрели – а уж турки и вовсе диаволовы слуги, у них никакого закона в сердце нет…
- У самого султана в любовниках один христианский князь, - вдруг прошептал Мардоний, склонившись через стол к Микитке. – Право слово, я сам слышал!*
- Господи помилуй, - сказал Микитка.
Они долго молчали.
Потом Микитка спросил:
- Что же, твой отец такое позволил… Согласился?
Мардоний теперь побледнел, кусая тонкие губы.
- Нет, - горячо сказал он. – Он о моем позоре не знает, а я никогда не скажу! Лучше умру!..
Он прикрыл глаза рукой, отвернулся.
- Мой отец очень храбрый военачальник… родовитый патрикий, достойный своих предков, - прошептал мальчик. – Я всегда им гордился… Он бы не сделал так с нами, если бы можно было иначе!
- С вами? Ты не один у отца? – быстро спросил Микитка.
Он заподозрил, что славный отец, которого так выгораживает Мардоний, несмотря на это, редкостный мерзавец…
- У меня остались еще две старшие сестры, - сказал юный Аммоний. Он сам не заметил, как рассказал Микитке гораздо больше, чем намеревался выпытать у тавроскифа, который не назвал ему даже своего имени. Впрочем, о хитростях и западнях оба давно забыли – два товарища по стольким несчастьям!
- Они замужем? – спросил Микитка, подразумевая: не отданы ли девушки туркам.
Мардоний помедлил.
- Агата замужем за Ибрахимом-пашой, скоро будет ребенок… А София, старшая, просто живет в его гареме. У них там много…
- Приживалок, - закончил Микитка, кивнув. Как в теремах: в его боярских палатах тоже было много всяких женщин без чина и звания.
Мардоний усмехнулся.
- Агату там называют Алтын, - сказал он. – Золото… Они с сестрой заложницы в доме градоначальника, чтобы отец ничего против него не сделал… Он ведь ненавидит турок всей душой, теперь еще больше!
- Тихо ты! – оборвал тут и Микитка нового знакомца.
- У них в обычае пленникам свои имена давать, - вздохнул Мардоний. – Но не христианские, святые, как у нас, а будто на забаву: и женщин зовут то цветками, то звездами, то драгоценностями… А все игра – они женщин не считают и не слушают! И сестер моих, если будут неугодны…
Он вытянул шею и провел ладонью по горлу.
- И в воду, - закончил Мардоний сурово.
- Бедняга, - прошептал Микитка.
Он был раздавлен этим рассказом – даже собственные несчастья рядом с несчастьями Мардония показались ему ничтожными. В самом деле – благородные люди, которые получают самые лучшие куски, и расплачиваются по-крупному!
Но Микитка по-прежнему подозревал, что отец Мардония получил с этого предательства больше, чем думал его сын.
- Твой отец женат? – спросил московит сухо.
- Да… Нет, - тут же поправился Мардоний. – У него есть несколько женщин, которых ему подарили здесь, в Стамбуле, но ведь у христиан это незаконно…
Мальчик опять заалел; а Микитка почувствовал, что люто возненавидел этого знатного господина, Мардониева отца, еще не увидев его. Он не Феофано! Та много лгала и много зла делала – но ведь не для себя, а для Византии…
И продолжает это делать…
- Ты о Феофано ничего не знаешь? – спросил он Мардония. Теперь уже он его допрашивал, ладил выпытать сколько можно – а тот совсем не таился!
- Знаю, что она до сих пор жила в имении мужа, Льва Аммония, - это в Морее, - сказал Мардоний. – Теперь в Морее правит брат Константина – Димитрий, который хотел править здесь, но не успел! Может быть, он взял Феофано под защиту…
Он помедлил и вдруг спросил Микитку:
- А твой хозяин, купец, не собирается уплывать?
- Ты мог бы уплыть? – воскликнул Микитка, забыв о всякой осторожности.
Бросить свою семью – и последних воинов Византии, Феофано! Сам русский евнух вдруг пронзительно почувствовал, как когда-то ощутил в день, в который его едва не опозорили католики, - что никуда отсюда не уедет, пока здесь, в руинах империи, жива царица Феофано. Он слишком многим обязан этой госпоже, как был обязан последнему императору! Слишком кровно он теперь связан с ними!
Мардоний долго не отвечал, видимо, ошеломленный выражением лица тавроскифа. Потом сказал:
- Конечно, я никуда не убегу, пока здесь мои сестры! И мой дядя, Дионисий, - уж он-то настоящий герой! Он воевал за Феофано!
Микитка нахмурился. Может быть; может быть, этот Аммоний и герой.
Мардоний внезапно встал.
- Как мы заговорились! Меня будут искать! - сказал он.
Но он не казался слишком взволнованным – может быть, часто убегал из дома своего покровителя; наверное, он был храбрее, чем вначале показался Микитке.
Мардоний шагнул было к выходу, словно забыв о собеседнике, - потом вдруг вернулся обратно и снова сел на табурет напротив.
- Феофано ненавидит моего отца, - прошептал он жарко. – Но она жалеет меня и моих сестер… Мой старший брат Дарий теперь живет у моего дяди, и Феофано любит его… А ее филэ, Феодора, была женой моего отца и сбежала!
- Какая Феодора? Жена патрикия Нотараса? – ахнул Микитка.
Вот это история! Нарочно такого не придумаешь, что закрутит жизнь!
- Она родила ребенка, и сбежала с ним, - сказал Мардоний. – И теперь Валент, мой отец, будет искать своего сына и Феодору, которую хочет взять в свой гарем… Но он сам боится Феофано и моего дяди Дионисия, я знаю…
Микитка покачал головой.
- Вот так так, - сказал он.
Расскажи кому дома, на Руси, – ни за что не поверят. Если он приедет домой, то-то будет всех удивлять!
- Мардоний, - хмуро сказал молодой евнух после долгого раздумья: Мардоний неотрывно смотрел на него. – Я, как ты понимаешь, бежать сейчас не могу – или, если бежать, то только всем вместе. Иначе мы будем не лучше твоего отца, - закончил московит.
Мардоний кивнул; Валента Аммония он больше не пытался защищать.
- А куда мы могли бы бежать? – тихо спросил юный грек.
- Может, в твою Морею! – ответил Микитка.
Он рассмеялся.
- Или, когда Морею тоже возьмут, - всем сесть на корабль и уплыть из этого Содома к чертовой бабушке…
Уж в это совсем не верилось. Но лицо Мардония загорелось при словах Микитки: бедный мальчик, в ожидании своей участи, готов был поверить в любую сказку.
- Как бы я хотел, чтобы это случилось! – воскликнул он.
- Ну так молись, - проворчал евнух.
Мардоний отвел глаза; он вдруг пошарил в глубоком кармане своих шаровар и достал пригоршню монет, которую бросил на стол перед Микиткой.
- Возьми! Тебе нужнее – у меня богатый господин! – сказал он.
Микитка открыл рот; но Мардоний вскинул ладонь, и черные глаза сверкнули повелительным огнем.
- Не желаю ничего слушать! Ты возьмешь это и отдашь своей матери… или прибереги, если не хочешь, чтобы она узнала.
Мардоний помедлил.
- Я теперь пойду… а ты посиди здесь. Я найду тебя еще…
Микитка улыбнулся, ощущая, как глаза увлажнились; Мардонию стало легче хотя бы оттого, что он выговорился.
Они замерли, глядя один другому в глаза, - и каждый ощутил, что у него теперь есть друг…
Это так мало – и может оказаться так много.
- Молись за себя и за Феофано. Не поддавайся, - велел Микитка.
Мардоний слабо кивнул; он пошел было к дверям, но тут Микитка нагнал его и остановил.
- А ты знаешь, как зовут Феофано взаправду? – спросил он.
Может быть, эти крупицы помогут ему узнать о царице амазонок и о сопротивлении больше! Мардоний ведь еще мал и ничего сам не вызнает!
- Как не знать – она моя тетка, - с печальной усмешкой ответил сын неведомого мерзкого Валента. – Феофано зовут Метаксия Калокир - она патрикия старинного рода...
Микитка вспомнил, что уже слышал имя этой госпожи, которое все-таки оказалось настоящим; но ее фамилию узнал только теперь. Может, и пригодится.
Мардоний скрылся; а Микитка вернулся к столу и допил свой шербет, к которому почти не притронулся. Подумал - и осушил стакан Мардония, который тот тоже едва пригубил.
Микитке было страшно выйти из таверны – и чем больше евнух размышлял над рассказом нового знакомца, тем страшнее становилось. Тогда он перестал думать.
Он встал, вспомнил о Боге и о Феофано – и, заложив руки за спину, быстрым шагом отправился навстречу неизвестности. Солнце ослепило его; Микитка зажмурился и улыбнулся. Он скоро шагал и продолжал улыбаться.
* Раду Дракула, князь Валахии (Румынии) и брат Влада Дракулы, долгие годы бывший фаворитом Мехмеда.
Имя Мардония Аммония, - как со странной смесью гордости и стыда назвался мальчишка, - сразу же показалось Микитке знакомым. Они зашли в какую-то таверну, полную чада и всякого сброда, совершенно как в греческие времена; и там Мардоний, с выражением природного господина, заказал им по стакану прохладительного напитка. Он кинул на прилавок несколько монет, казалось, не глядя и не считая...
И тут Микитку будто молнией ударило. Он вспомнил, где слышал эту ромейскую фамилию, - Аммонием величали мужа Феофано! Как по-настоящему звали эту царицу, он так и не узнал: но, должно быть, он и Мардоний каждый знали о Феофано важные вещи, неизвестные другому.
Микитка почти не пил, глядя во все глаза на собеседника, - хотя шербет был очень вкусный и в другое время он проглотил бы его одним махом. Мардоний тоже пил маленькими глотками, не поднимая глаз; даже в дыму от жаренья и копченья было видно, что щеки его пылают. Юный грек чего-то очень стыдился и от чего-то страдал – но это не помешало бы ему обернуться врагом.
Сам Микитка уже сказал о себе несколько слов: не обмолвившись, конечно, о своем увечье, он сказал, что попал в плен к ромеям вместе со своей матерью, которая уже здесь вышла замуж за царского дружинника. Этого, собственно, и нечего было скрывать. О Феофано он молчал – сторожко выжидая, как ответит Мардоний.
Пока Микитка ждал, он начал вдруг догадываться, чего стыдится юный грек; и на несколько мгновений его самого охватили горячая жалость и стыд, от которых он чуть не вскочил из-за стола. Не худшую ли тайну, чем его собственная, скрывал Мардоний Аммоний – этот потомок знатного византийского рода?
И ведь если бы Феофано тогда пошла против сердца, а ее охранитель Марк выдал их Никифору Флатанелосу, Микитку могла бы ожидать такая же участь, как Мардония! Никакая собственная стойкость его не спасла бы! Бог беду отвел; и надо же помочь и этому несчастному, если Микитка верно догадался, что он турецкий наложник…
Однако несчастный мальчишка с такою же легкостью мог оказаться лгуном и подсылом – подсылом кого-нибудь из могущественных врагов Феофано, который теперь жаждал расправиться с нею или захватить ее в плен! Микитка, как и многие, был наслышан о подвигах этой необыкновенной гречанки; и знал, что для турок, – как и для немалого числа католиков, - победить Феофано будет почти как свалить Софийский крест. Царица амазонок, как ее называли теперь, воплотила в себе и явила современникам древние свойства греческого духа - память о геройстве предков…
И Микитка решился.
- Ты родственник Феофано, я понял, - хрипловато от волнения сказал он. Мардоний вскинул изумленные глаза. – Тебе нужна какая-то помощь от этой госпожи, я угадал? – спросил евнух, пока Мардоний не опомнился.
Юный грек кивнул.
- Я ей сродни, - ответил он. Натянув на пальцы свои роскошные рукава, он принялся теребить их. – Мой отец – брат ее покойного мужа, и теперь сторонник султана Мехмеда. Один из самых верных… хотя передался в числе последних.
Когда Мардоний заговорил, он показался взрослее своих лет, и взрослее своего возраста он изъяснялся: как сам Микитка, которого в самые нежные годы ввергли в несчастья. Сострадание вновь овладело сердцем евнуха.
Потом, когда он вполне осознал сказанное, сочувствие опять сменило огромное изумление – и осознание невольной причастности к каким-то великим делам, которое Микитка испытывал, когда Феофано использовала его в своих целях…
- Я едва ли тебе помогу, - сказал евнух в наступившей тишине. – Ты сейчас платил за нас обоих, а я… Был постельничим императора, но что имел, когда меня с матерью захватили, с тем и остался: гол как сокол.
Он развел руками. Мардоний слабо улыбнулся.
- Я знаю, что ты почти ничего не можешь, и позвал тебя потому, что… Глупая надежда!
Микитка кивнул: он очень хорошо понимал такое чувство, отчаянную нужду в друге. Если Мардоний не лгал. А может, Микитка напомнил этому последышу рода Аммониев о русской женщине, с которой была дружна Феофано – и с которой, по слухам, она была в блудной связи… Хотя для древних греков это было законно и свято. Уж как ни крути, лучше, чем мальчишке подставлять зад турецкому паше – или, может, самому султану? Микитка давно знал о гареме мальчиков, который постоянно пополнял Мехмед!
Он ощутил, что сам краснеет под взглядом Мардония, и отвел глаза. Юный грек тяжело вздохнул.
- Я сейчас живу под покровительством Гали-бея, - сказал он, постучав пальцами по столу. – Это один из храбрых офицеров султана, который здесь, в Константинополе, поддерживает градоначальника, Ибрахима-пашу. Люди Гали-бея служат в городской страже, и они здесь повсюду…
Мардоний сглотнул; и тут только Микитка осознал, в какой опасности они оба прямо сейчас. Кто мог видеть, как они зашли в таверну?..
Он перекрестился; и Мардоний вздрогнул, сердитое выражение мелькнуло на его лице.
- Думай, что делаешь! – шепотом воскликнул мальчик.
Микитка сжал руку в кулак; другой сжал свой зеленый стеклянный стакан так, что тот чуть не треснул.
- Ты мусульманин? – очень тихо спросил он.
Мардоний встрепенулся.
- Разве сидел бы я здесь с тобой, будь это так! – горячо воскликнул он.
Микитка сжал губы. Как раз мусульманин и мог бы сидеть и обольщать; но тут он подумал, что, должно быть, переоценивает хитрость своего собеседника. Ведь ему не больше двенадцати лет, и он никак не сможет одолеть словом старшего! Ему бы такого и не поручили!
Мардоний вдруг протянул Микитке руку через стол, и ошеломленный евнух сжал ее. Он ощутил, какая нежная у сына Аммония кожа, по сравнению с его собственной жесткой рукой.
- Я скоро стану мусульманином, - звенящим шепотом проговорил мальчик. – И тогда… Тогда меня опозорят, потому что это станет законно для мусульман! У них и наложники должны быть турецкой веры!
Микитка понимал, что этот юный греческий аристократ ни в жизнь бы не признался в таком унижении русскому рабу, - если бы не дошел до края. Господи, что же творится?..
Пришел конец света, сказала мать…
- Но ведь, кажется, турецкая вера это запрещает? – осторожно спросил Микитка. Он как будто бы слышал, что магометане, как и христиане, такую погань запрещают.
Мардоний в ответ печально рассмеялся.
- Да кто на это смотрит? – спросил он.
Микитка кивнул. Греки мало смотрели – а уж турки и вовсе диаволовы слуги, у них никакого закона в сердце нет…
- У самого султана в любовниках один христианский князь, - вдруг прошептал Мардоний, склонившись через стол к Микитке. – Право слово, я сам слышал!*
- Господи помилуй, - сказал Микитка.
Они долго молчали.
Потом Микитка спросил:
- Что же, твой отец такое позволил… Согласился?
Мардоний теперь побледнел, кусая тонкие губы.
- Нет, - горячо сказал он. – Он о моем позоре не знает, а я никогда не скажу! Лучше умру!..
Он прикрыл глаза рукой, отвернулся.
- Мой отец очень храбрый военачальник… родовитый патрикий, достойный своих предков, - прошептал мальчик. – Я всегда им гордился… Он бы не сделал так с нами, если бы можно было иначе!
- С вами? Ты не один у отца? – быстро спросил Микитка.
Он заподозрил, что славный отец, которого так выгораживает Мардоний, несмотря на это, редкостный мерзавец…
- У меня остались еще две старшие сестры, - сказал юный Аммоний. Он сам не заметил, как рассказал Микитке гораздо больше, чем намеревался выпытать у тавроскифа, который не назвал ему даже своего имени. Впрочем, о хитростях и западнях оба давно забыли – два товарища по стольким несчастьям!
- Они замужем? – спросил Микитка, подразумевая: не отданы ли девушки туркам.
Мардоний помедлил.
- Агата замужем за Ибрахимом-пашой, скоро будет ребенок… А София, старшая, просто живет в его гареме. У них там много…
- Приживалок, - закончил Микитка, кивнув. Как в теремах: в его боярских палатах тоже было много всяких женщин без чина и звания.
Мардоний усмехнулся.
- Агату там называют Алтын, - сказал он. – Золото… Они с сестрой заложницы в доме градоначальника, чтобы отец ничего против него не сделал… Он ведь ненавидит турок всей душой, теперь еще больше!
- Тихо ты! – оборвал тут и Микитка нового знакомца.
- У них в обычае пленникам свои имена давать, - вздохнул Мардоний. – Но не христианские, святые, как у нас, а будто на забаву: и женщин зовут то цветками, то звездами, то драгоценностями… А все игра – они женщин не считают и не слушают! И сестер моих, если будут неугодны…
Он вытянул шею и провел ладонью по горлу.
- И в воду, - закончил Мардоний сурово.
- Бедняга, - прошептал Микитка.
Он был раздавлен этим рассказом – даже собственные несчастья рядом с несчастьями Мардония показались ему ничтожными. В самом деле – благородные люди, которые получают самые лучшие куски, и расплачиваются по-крупному!
Но Микитка по-прежнему подозревал, что отец Мардония получил с этого предательства больше, чем думал его сын.
- Твой отец женат? – спросил московит сухо.
- Да… Нет, - тут же поправился Мардоний. – У него есть несколько женщин, которых ему подарили здесь, в Стамбуле, но ведь у христиан это незаконно…
Мальчик опять заалел; а Микитка почувствовал, что люто возненавидел этого знатного господина, Мардониева отца, еще не увидев его. Он не Феофано! Та много лгала и много зла делала – но ведь не для себя, а для Византии…
И продолжает это делать…
- Ты о Феофано ничего не знаешь? – спросил он Мардония. Теперь уже он его допрашивал, ладил выпытать сколько можно – а тот совсем не таился!
- Знаю, что она до сих пор жила в имении мужа, Льва Аммония, - это в Морее, - сказал Мардоний. – Теперь в Морее правит брат Константина – Димитрий, который хотел править здесь, но не успел! Может быть, он взял Феофано под защиту…
Он помедлил и вдруг спросил Микитку:
- А твой хозяин, купец, не собирается уплывать?
- Ты мог бы уплыть? – воскликнул Микитка, забыв о всякой осторожности.
Бросить свою семью – и последних воинов Византии, Феофано! Сам русский евнух вдруг пронзительно почувствовал, как когда-то ощутил в день, в который его едва не опозорили католики, - что никуда отсюда не уедет, пока здесь, в руинах империи, жива царица Феофано. Он слишком многим обязан этой госпоже, как был обязан последнему императору! Слишком кровно он теперь связан с ними!
Мардоний долго не отвечал, видимо, ошеломленный выражением лица тавроскифа. Потом сказал:
- Конечно, я никуда не убегу, пока здесь мои сестры! И мой дядя, Дионисий, - уж он-то настоящий герой! Он воевал за Феофано!
Микитка нахмурился. Может быть; может быть, этот Аммоний и герой.
Мардоний внезапно встал.
- Как мы заговорились! Меня будут искать! - сказал он.
Но он не казался слишком взволнованным – может быть, часто убегал из дома своего покровителя; наверное, он был храбрее, чем вначале показался Микитке.
Мардоний шагнул было к выходу, словно забыв о собеседнике, - потом вдруг вернулся обратно и снова сел на табурет напротив.
- Феофано ненавидит моего отца, - прошептал он жарко. – Но она жалеет меня и моих сестер… Мой старший брат Дарий теперь живет у моего дяди, и Феофано любит его… А ее филэ, Феодора, была женой моего отца и сбежала!
- Какая Феодора? Жена патрикия Нотараса? – ахнул Микитка.
Вот это история! Нарочно такого не придумаешь, что закрутит жизнь!
- Она родила ребенка, и сбежала с ним, - сказал Мардоний. – И теперь Валент, мой отец, будет искать своего сына и Феодору, которую хочет взять в свой гарем… Но он сам боится Феофано и моего дяди Дионисия, я знаю…
Микитка покачал головой.
- Вот так так, - сказал он.
Расскажи кому дома, на Руси, – ни за что не поверят. Если он приедет домой, то-то будет всех удивлять!
- Мардоний, - хмуро сказал молодой евнух после долгого раздумья: Мардоний неотрывно смотрел на него. – Я, как ты понимаешь, бежать сейчас не могу – или, если бежать, то только всем вместе. Иначе мы будем не лучше твоего отца, - закончил московит.
Мардоний кивнул; Валента Аммония он больше не пытался защищать.
- А куда мы могли бы бежать? – тихо спросил юный грек.
- Может, в твою Морею! – ответил Микитка.
Он рассмеялся.
- Или, когда Морею тоже возьмут, - всем сесть на корабль и уплыть из этого Содома к чертовой бабушке…
Уж в это совсем не верилось. Но лицо Мардония загорелось при словах Микитки: бедный мальчик, в ожидании своей участи, готов был поверить в любую сказку.
- Как бы я хотел, чтобы это случилось! – воскликнул он.
- Ну так молись, - проворчал евнух.
Мардоний отвел глаза; он вдруг пошарил в глубоком кармане своих шаровар и достал пригоршню монет, которую бросил на стол перед Микиткой.
- Возьми! Тебе нужнее – у меня богатый господин! – сказал он.
Микитка открыл рот; но Мардоний вскинул ладонь, и черные глаза сверкнули повелительным огнем.
- Не желаю ничего слушать! Ты возьмешь это и отдашь своей матери… или прибереги, если не хочешь, чтобы она узнала.
Мардоний помедлил.
- Я теперь пойду… а ты посиди здесь. Я найду тебя еще…
Микитка улыбнулся, ощущая, как глаза увлажнились; Мардонию стало легче хотя бы оттого, что он выговорился.
Они замерли, глядя один другому в глаза, - и каждый ощутил, что у него теперь есть друг…
Это так мало – и может оказаться так много.
- Молись за себя и за Феофано. Не поддавайся, - велел Микитка.
Мардоний слабо кивнул; он пошел было к дверям, но тут Микитка нагнал его и остановил.
- А ты знаешь, как зовут Феофано взаправду? – спросил он.
Может быть, эти крупицы помогут ему узнать о царице амазонок и о сопротивлении больше! Мардоний ведь еще мал и ничего сам не вызнает!
- Как не знать – она моя тетка, - с печальной усмешкой ответил сын неведомого мерзкого Валента. – Феофано зовут Метаксия Калокир - она патрикия старинного рода...
Микитка вспомнил, что уже слышал имя этой госпожи, которое все-таки оказалось настоящим; но ее фамилию узнал только теперь. Может, и пригодится.
Мардоний скрылся; а Микитка вернулся к столу и допил свой шербет, к которому почти не притронулся. Подумал - и осушил стакан Мардония, который тот тоже едва пригубил.
Микитке было страшно выйти из таверны – и чем больше евнух размышлял над рассказом нового знакомца, тем страшнее становилось. Тогда он перестал думать.
Он встал, вспомнил о Боге и о Феофано – и, заложив руки за спину, быстрым шагом отправился навстречу неизвестности. Солнце ослепило его; Микитка зажмурился и улыбнулся. Он скоро шагал и продолжал улыбаться.
* Раду Дракула, князь Валахии (Румынии) и брат Влада Дракулы, долгие годы бывший фаворитом Мехмеда.
Re: Ставрос
Глава 98
Димитрий Палеолог теперь именовался великим василевсом; но, как и христианские князья многих маленьких земель, покоренных султанатом, правил с позволения султана. Столицей Димитрия и Морейского деспотата оставалась Мистра.
Туда, вскоре после падения Константинополя, и перебралась Феофано со своей русской подругой и ее детьми; они звали с собой Фому Нотараса, но патрикий отказался. Впрочем, этого следовало ожидать. Проявлять себя этот обделенный мужеством и твердостью человек мог только обидчивостью и мелким упрямством…
- Он так строит свою душу, - с грустной усмешкой сказала Феофано московитке. – Чтобы не остаться никем.
Феодора вспомнила их давний разговор о спасении души, как это спасение понимала Феофано, - и содрогнулась: не могла ли царица в самом деле оказаться права? Она так необыкновенно судила обо всем!
- Мне жалко Фому, - сказала Феодора. – Он ведь очень одарен, а так и не нашел себе применения! Для мужчины это очень тяжело!
Феофано пожала плечами и ничего не ответила. Она, как и Валент, не любила разоряться на самобичевание и не могла позволить себе такой роскоши.
Как бы то ни было, пока патрикий Нотарас пытался быть мужественным, женщины его семьи перебрались под защиту мистрийских властей. Феофано не теряла времени даром и возобновила свои знакомства. Ее помнили в Мистре многие, и многие восхищались и любили, хотя кое-кто порицал за блуд, - но наверняка о ее жизни с подругой никто ничего не знал. Та небольшое число свидетелей, кто наблюдал жизнь Метаксии Калокир близко, ветераны ее сражений, были тверже камня – неподкупны и дороже всякого золота.
Феофано лично встретилась с Димитрием, и Феодора тоже увидела его – она была в свите царицы. Этот деспот Мореи напомнил ей первого из василевсов, которого она увидела здесь: того, что едва не погиб от рук Феофано, - Иоанна. Димитрий Палеолог был такой же старчески красивый и благолепно-вялый. Хотя это могло оказаться только иллюзией…
Но Феодору редко обманывало чутье.
Еще реже обманывало оно Феофано. Хотя во дворце было куда беспокойней и далеко не так уютно, как в имении, Феофано почти не сомневалась, что именно сейчас Валент попытается подобраться к ним.
- Он заплатил дорогую цену за свое предательство, - сумрачно говорила царица, - и теперь, несомненно, захочет возместить себе все, что он потерял и в чем его ущемили! Валент всегда умел… желать.
Феодора потеребила конец косы: она сейчас причесывалась на римско-азиатский лад, заплетая темные волосы в одну косу, но притом еще и укладывая пучками или косичками на затылке или висках.
- А тебе не страшно за его детей? – спросила она.
- Думаю, их Валент защитит, - сказала Феофано. – Он слишком себялибив, чтобы пренебрегать своей собственностью. Наверняка девушки уже в гаремах кого-нибудь из пашей, а мальчишка отдан на воспитание кому-нибудь из султанских мудрецов, школьных наставников… Мардония еще можно перекроить почти без боли. Потом будет гораздо больней!
Феодора хотела ответить резкостью, но удержалась. Конечно, теперь было уже поздно! Феофано помогла бы детям Валента, если бы еще оставалась возможность!
Но столько удач подряд с неба не сыплется. И наверняка София и Агата уже беременны – а значит, потеряны почти безвозвратно. Не один только Валент умел укрощать женщин и пленников.
- Но ведь Валенту могут… отомстить за измену, - сказала Феодора.
Феофано пожала плечами.
- Если бы турки мстили всем своим христианским вассалам, кто с ними подличает, пришлось бы извести их под корень! Едва ли его тронут… османы не могут разбрасываться такими людьми, как Аммонии!
Феофано заключила, посмотрев на подругу:
- А вот нам бы поберечься. Валент сейчас ненавидит себя за предательство… и будет мстить за это всем своим, и прежде всего тебе и мне. Может, тебе и вправду придется стрелять! Выстрелить в него!
- Если придет нужда, рука у меня не дрогнет, - ответила московитка.
Она не прекращала упражнений в стрельбе ни на день – и теперь кожа у нее между пальцами загрубела, как у опытного стрелка или возницы. Феофано не только приучила ее к седлу, но и давала править своей квадригой: теперь лакедемонянка возобновила свои гонки, подобно дочерям спартанских царей, которые, случалось, даже состязались в этом с мужчинами.
Феофано брала подругу с собой и в саму древнюю Спарту – приложить ладонь к священным стенам, поймать губами дыхание героических призраков, все еще обитавших здесь, среди камней храмов и мегаронов*, рассевшихся от древности.
Они сели отдохнуть на ступеньки, в развалинах полуторатысячелетнего театра, и Феофано задумчиво сказала, подперев упрямо выступающий подбородок рукой:
- Спарта была сильна, пока была бедна и обособлена… ты ведь знаешь, что Лакония веками отдавала своих лучших воинов в наемники персам. Так теперь Мехмед поступает с дикими племенами, превыше всего блюдущими свои обычаи. Так и императоры поступали с вами, скифами, - не правда ли?
Феодора возмущенно встрепенулась.
- Мы не отдаем своих лучших воинов в наемники… да еще веками! Мы и сами сильны!
Феофано улыбнулась и кивнула.
- Вы становитесь сильнее на имперский лад, дорогая. Вы уподобляетесь ромеям и османам… малое со временем неизбежно поглощается великим, а простое усложняется. Таков закон всех человеческих обществ. Главное – соблюсти в этом здоровую меру, и через столетия пронести память о том, кто вы есть!
Феодора восхищенно хлопнула в ладоши, а потом обняла царицу. Их руки загрубели, и даже масла не смягчали их достаточно; но с тех пор, как Феодора ощутила себя свободной в лаконском духе, она гораздо чаще и сильнее ощущала любовное влечение – не к одной только Феофано, а и к мужчинам, и ко всему миру!
Любить, говорила Феофано, способны только свободные люди.
Она, как Христос, делала рабов свободными.
Микитка слушал и высматривал, толкался в толпе, хотя это было очень опасно, - но, как и тогда, когда он пытался шпионить за Феофано, ничего не узнал. Микитка был слишком мал для борьбы с такими чудовищами – тем более в одиночку! Конечно, он не мог сказать никому о своем знакомстве; и боялся, как бы несчастные сестры Мардония и он сам не пострадали из-за смелости мальчика.
Микитка говорил ему не поддаваться – но разве это возможно? Конечно, если хозяин решит надругаться над ним, Мардоний не сможет сопротивляться!
Микитка помнил обещание снова встретиться – но с каждым днем все меньше в это верил. Может быть, Мардония жестоко наказали за отлучку, если даже не увидели его с русским юношей, - или он сам больше не решался высовываться, слишком многим рискуя.
Того, что случилось через неделю после их разговора, русский евнух ожидал меньше всего.
Он как раз присматривал за хозяйским ослом на тихой зеленой улице – этот квартал был словно перенесен сюда из какого-нибудь итальянского города! – как вдруг к Микитке подошел нищий, закутанный в рваный плащ: маленький оборвыш. Это не было редкостью в итальянских кварталах, как и в греческих; хотя турецкие стражники жестоко гоняли попрошаек палками, а то и саблями.
Микитка пошарил в кармане, ничего не нашел… как вдруг услышал смех. Нищий откинул капюшон.
- Мардоний! – ахнул евнух.
Микитка быстро огляделся.
- Но как ты…
- Ты совсем не умеешь скрываться и хитрить, варвар! Найти тебя было очень просто! – воскликнул Мардоний, широко улыбаясь. И Микитка вдруг впервые увидел в нем его неведомого ненавистного отца – разбойно-восточную небрежность, вместе с ромейским высокомерием.
- Я сбежал! – гордо объявил Мардоний: как будто было еще непонятно.
Микитка опомнился. Он встряхнул юного приятеля за слабые плечи.
- Ты что наделал!.. Теперь нам всем конец!
- Если ты не донесешь, никто не узнает, - возразил Мардоний. В эту минуту он казался храбрее Микитки – да, наверное, и был.
Микитка устыдился.
- Тебе нужно спрятаться… скоро придет мой хозяин.
Мардоний кивнул.
- Сейчас я исчезну!
И он отошел. Мгновение – и его уже не было рядом; а Микитка хлопнул себя по лбу в досаде, что не уследил. Этот мальчишка сейчас наделает дел! Заметит его кто-нибудь из домашних, и…
Но тут подошел хозяин, Джузеппе ди Альберто, - и Микитка сумел совладать со своими чувствами; а потом почти успокоился. В таком наряде узнать Мардония мог только тот, кто уже знал его как сына своего отца. Только бы мальчишка никуда не делся, пока Микитка занят!
Когда Микитка освободился и пошел по той же улице домой, его опять нагнал Мардоний, выросший будто из-под земли. Он поманил приятеля рукой, и они отошли на обочину и сели под деревьями. Над ними росла смоковница, под которой в траве валялось несколько попорченных солнцем и мухами фиг.
Мардоний схватил один плод и тут же вгрызся в него белыми зубами; Микитка взирал на юного аристократа в изумлении.
- Это владения…
Мардоний махнул на него рукой.
- Все равно чьи! Твои итальянцы никак не страшнее янычар!
Микитка понял, что Мардоний опасно опьянен своей первой маленькой победой, - порою даже добрые и честные люди, освободившись от долгого гнета и унижения, делались отъявленными разбойниками. А Мардоний еще и уязвленный аристократ, и разбойничье семя!
Мардоний вдруг опять поманил его к себе и, обхватив за шею, жарко прошептал на ухо:
- Они все думают, что я утонул… или утопился.
Микитка поперхнулся, хотя ничего не ел.
- Как?..
- Очень просто, - все еще гордясь собой, ответил мальчишка. – Я оставил свое платье на берегу… а этот плащ купил у нищего во Влахернах, там живет мой господин.
Тут Микитка заметил, что на Мардонии только сверху рванина, а штаны и рубаха на нем справные, только что некрашеные. И даже сандалии на ногах. Евнух покачал головой, хмурясь.
- А твой отец?
При этих словах улыбка на тонких пунцовых губах завяла.
- Он тоже думает, что я мертв.
Мардоний прерывисто вздохнул.
- Я видел сам, когда прятался, как меня искали… а потом Валент долго сидел на берегу с моей одеждой в руках, и никто не смел его задеть, даже турки…
Микитка вообразил, как приняла бы такое известие его мать, и ему стало дурно.
- А ты не думаешь, что ты не один такой умник? – хмуро спросил Микитка. – А ну как они разгадали твою хитрость?
Мардоний мотнул головой.
- Нет!
"А может, отец был даже и рад избавиться… от позора", - мелькнуло в голове у Микитки. Он не так уж много узнал об обычаях греков, но не сомневался, что Валент гордился сыном куда меньше, чем сын – отцом. Греческое аристократство до сих пор превыше всего ценило телесную силу, красоту и ловкость с оружием!
Правда, Мардоний был хорош собой, - но красотой более девической: скорее как евнух, чем как воитель. Подобно самому Микитке в его годы. Это была какая-то иная кровь, нежели у Феофано, - более восточная и темная; даже фамилия Мардония звучала не по-гречески, хотя все эти господа были ромеями.
- Откуда ты родом? – спросил Микитка.
- Из Македонии, - гордо ответил Мардоний. – Это искони православная земля*… а до тех пор была земля, славная победами.
- Я слышал, - кивнул Микитка.
Наверное, Аммонии пошли от каких-нибудь диких македонских вождей, переженившихся на пленных персиянках. Вот сокровище ему досталось! Микитка вздохнул.
- Теперь-то ты как думаешь быть?
Мардоний воззрился на него, точно это само собой разумелось.
- Как это – как думаю? Ты укроешь меня!
Микитка не ответил, поджав губы: на душе вдруг стало прескверно. А Мардоний прибавил:
- Вы, скифы, хоть и не горазды на выдумки, но своих не выдаете – я знаю!
Микитка оскорбился, вспомнив, как русские этериоты многие месяцы прятали у себя жен и детей – бывших рабов. И они, значит, без хитрости?
Он поднял глаза на Мардония и тут же опять потупился; на щеках расцвели малиновые пятна. И тут Мардоний наконец спохватился.
- Прости, я был с тобой груб!
Микитка хмуро посмотрел на него.
- Прощаю, так и быть.
Он сорвал травинку и раскусил, раздумывая, - и Мардоний теперь ждал почти благоговейно, не смея прервать его размышлений.
Наконец Микитка отбросил за спину длинные русые волосы и встал; Мардоний немедленно поднялся следом.
- Я тебя отведу к товарищам отца. Это неподалеку, - сказал евнух. – Но только ты никому не скажешь, кто ты такой!
Теперь Мардоний почти оробел.
- Хорошо… А что ты им скажешь?
- Скажу, что ты мой друг и сбежал от турок. Этого нашим будет достаточно, - отозвался Микитка, шагая вперед; Мардоний трусил рядом, заглядывая ему в глаза. – Но не думай, будто мы просты.
Мардоний вдруг бросился ему на шею и пылко поцеловал. Микитка чуть не отпихнул мальчишку от неожиданности, хотя давно наблюдал такие выражения приязни у пылких греков и итальянцев.
- Спасибо тебе! Ты истинный друг! – воскликнул мальчик.
И тут вдруг оба поняли, что Мардоний до сих пор не знает имени своего благодетеля, - и одновременно расхохотались.
- Но как тебя зовут, друг? – спросил Мардоний, успокоившись.
- Никита… "Петрович", - чуть не закончил Микитка.
- У тебя наше имя… Я очень рад, - сказал Мардоний, покраснев от радости и волнения. Они крепко пожали друг другу руки.
Через несколько шагов Микитка увидел знакомую калитку в белой стене – высокой и толстой, точно монастырская стена или ограда султанского гарема. Но калитка была не заперта; Микитка отворил ее и вошел, и Мардоний следом.
Микитка опять велел другу спрятаться. А потом ушел; и не было его довольно долго.
Вернулся русский евнух с высоким и дюжим мужчиной, голым по пояс: на плечах у воина еще блестели капли воды. Он только что обливался от жары. Спутник Микитки был очень загорелым, но с льняной головой и голубыми глазами.
- Ратша, - сказал Микитка изумленному витязю, когда навстречу им из кустов встал Мардоний. – Это мой друг, он бежал от турок! Он не понимает по-нашему!
- Видимое дело, - сказал Ратша, глядевший на смуглую черноту гостя.
Он склонился над мальчиком и положил ему руку на плечо; Мардоний едва не отпрянул.
- Ты кто таков? – спросил витязь по-гречески.
- Я…
Тут Мардоний покраснел и забыл, как собирался солгать. Да он и не сумел бы перед этим человеком!
Ратша кивнул и, похлопав мальчика по плечу, отвернулся. Он очень хорошо понимал, что стыд бывает разный.
Но на Микитку белоголовый русич посмотрел очень сурово.
- Прокормить его мы прокормим, кусок на такой рот найдется, - сказал он. – Но если с ним что-нибудь… я с тебя три шкуры спущу! Ты теперь за него в ответе!
Если с Мардонием выйдет "что-нибудь", хмуро подумал Микитка, спускать шкуры будет не Ратша…
- Он ничего не учудит, дядька Ратша. Я за него ручаюсь, - сказал Микитка - и посмотрел на Мардония. Тот ничего не понял из разговора старших, но понял, что речь о ручательстве: и серьезно кивнул.
Потом Микитке пришло время уходить; помогать матери. Мардоний попросил его приходить почаще. Ведь у него никого не осталось, кроме нового скифского друга!
- И приду, и тебе дело сыщу, - кивнул Микитка, вспоминая нежные руки Валентова сына. На прощанье Мардоний еще раз одарил его улыбкой и поцелуем. Микитка улыбнулся в ответ и направился прочь, думая: Господи, Господи.
* Мегарон - греческий дом прямоугольного плана с очагом посередине.
* На самом деле до освобождения от османского ига македонская церковь подчинялась попеременно Константинополю и Риму.
Димитрий Палеолог теперь именовался великим василевсом; но, как и христианские князья многих маленьких земель, покоренных султанатом, правил с позволения султана. Столицей Димитрия и Морейского деспотата оставалась Мистра.
Туда, вскоре после падения Константинополя, и перебралась Феофано со своей русской подругой и ее детьми; они звали с собой Фому Нотараса, но патрикий отказался. Впрочем, этого следовало ожидать. Проявлять себя этот обделенный мужеством и твердостью человек мог только обидчивостью и мелким упрямством…
- Он так строит свою душу, - с грустной усмешкой сказала Феофано московитке. – Чтобы не остаться никем.
Феодора вспомнила их давний разговор о спасении души, как это спасение понимала Феофано, - и содрогнулась: не могла ли царица в самом деле оказаться права? Она так необыкновенно судила обо всем!
- Мне жалко Фому, - сказала Феодора. – Он ведь очень одарен, а так и не нашел себе применения! Для мужчины это очень тяжело!
Феофано пожала плечами и ничего не ответила. Она, как и Валент, не любила разоряться на самобичевание и не могла позволить себе такой роскоши.
Как бы то ни было, пока патрикий Нотарас пытался быть мужественным, женщины его семьи перебрались под защиту мистрийских властей. Феофано не теряла времени даром и возобновила свои знакомства. Ее помнили в Мистре многие, и многие восхищались и любили, хотя кое-кто порицал за блуд, - но наверняка о ее жизни с подругой никто ничего не знал. Та небольшое число свидетелей, кто наблюдал жизнь Метаксии Калокир близко, ветераны ее сражений, были тверже камня – неподкупны и дороже всякого золота.
Феофано лично встретилась с Димитрием, и Феодора тоже увидела его – она была в свите царицы. Этот деспот Мореи напомнил ей первого из василевсов, которого она увидела здесь: того, что едва не погиб от рук Феофано, - Иоанна. Димитрий Палеолог был такой же старчески красивый и благолепно-вялый. Хотя это могло оказаться только иллюзией…
Но Феодору редко обманывало чутье.
Еще реже обманывало оно Феофано. Хотя во дворце было куда беспокойней и далеко не так уютно, как в имении, Феофано почти не сомневалась, что именно сейчас Валент попытается подобраться к ним.
- Он заплатил дорогую цену за свое предательство, - сумрачно говорила царица, - и теперь, несомненно, захочет возместить себе все, что он потерял и в чем его ущемили! Валент всегда умел… желать.
Феодора потеребила конец косы: она сейчас причесывалась на римско-азиатский лад, заплетая темные волосы в одну косу, но притом еще и укладывая пучками или косичками на затылке или висках.
- А тебе не страшно за его детей? – спросила она.
- Думаю, их Валент защитит, - сказала Феофано. – Он слишком себялибив, чтобы пренебрегать своей собственностью. Наверняка девушки уже в гаремах кого-нибудь из пашей, а мальчишка отдан на воспитание кому-нибудь из султанских мудрецов, школьных наставников… Мардония еще можно перекроить почти без боли. Потом будет гораздо больней!
Феодора хотела ответить резкостью, но удержалась. Конечно, теперь было уже поздно! Феофано помогла бы детям Валента, если бы еще оставалась возможность!
Но столько удач подряд с неба не сыплется. И наверняка София и Агата уже беременны – а значит, потеряны почти безвозвратно. Не один только Валент умел укрощать женщин и пленников.
- Но ведь Валенту могут… отомстить за измену, - сказала Феодора.
Феофано пожала плечами.
- Если бы турки мстили всем своим христианским вассалам, кто с ними подличает, пришлось бы извести их под корень! Едва ли его тронут… османы не могут разбрасываться такими людьми, как Аммонии!
Феофано заключила, посмотрев на подругу:
- А вот нам бы поберечься. Валент сейчас ненавидит себя за предательство… и будет мстить за это всем своим, и прежде всего тебе и мне. Может, тебе и вправду придется стрелять! Выстрелить в него!
- Если придет нужда, рука у меня не дрогнет, - ответила московитка.
Она не прекращала упражнений в стрельбе ни на день – и теперь кожа у нее между пальцами загрубела, как у опытного стрелка или возницы. Феофано не только приучила ее к седлу, но и давала править своей квадригой: теперь лакедемонянка возобновила свои гонки, подобно дочерям спартанских царей, которые, случалось, даже состязались в этом с мужчинами.
Феофано брала подругу с собой и в саму древнюю Спарту – приложить ладонь к священным стенам, поймать губами дыхание героических призраков, все еще обитавших здесь, среди камней храмов и мегаронов*, рассевшихся от древности.
Они сели отдохнуть на ступеньки, в развалинах полуторатысячелетнего театра, и Феофано задумчиво сказала, подперев упрямо выступающий подбородок рукой:
- Спарта была сильна, пока была бедна и обособлена… ты ведь знаешь, что Лакония веками отдавала своих лучших воинов в наемники персам. Так теперь Мехмед поступает с дикими племенами, превыше всего блюдущими свои обычаи. Так и императоры поступали с вами, скифами, - не правда ли?
Феодора возмущенно встрепенулась.
- Мы не отдаем своих лучших воинов в наемники… да еще веками! Мы и сами сильны!
Феофано улыбнулась и кивнула.
- Вы становитесь сильнее на имперский лад, дорогая. Вы уподобляетесь ромеям и османам… малое со временем неизбежно поглощается великим, а простое усложняется. Таков закон всех человеческих обществ. Главное – соблюсти в этом здоровую меру, и через столетия пронести память о том, кто вы есть!
Феодора восхищенно хлопнула в ладоши, а потом обняла царицу. Их руки загрубели, и даже масла не смягчали их достаточно; но с тех пор, как Феодора ощутила себя свободной в лаконском духе, она гораздо чаще и сильнее ощущала любовное влечение – не к одной только Феофано, а и к мужчинам, и ко всему миру!
Любить, говорила Феофано, способны только свободные люди.
Она, как Христос, делала рабов свободными.
Микитка слушал и высматривал, толкался в толпе, хотя это было очень опасно, - но, как и тогда, когда он пытался шпионить за Феофано, ничего не узнал. Микитка был слишком мал для борьбы с такими чудовищами – тем более в одиночку! Конечно, он не мог сказать никому о своем знакомстве; и боялся, как бы несчастные сестры Мардония и он сам не пострадали из-за смелости мальчика.
Микитка говорил ему не поддаваться – но разве это возможно? Конечно, если хозяин решит надругаться над ним, Мардоний не сможет сопротивляться!
Микитка помнил обещание снова встретиться – но с каждым днем все меньше в это верил. Может быть, Мардония жестоко наказали за отлучку, если даже не увидели его с русским юношей, - или он сам больше не решался высовываться, слишком многим рискуя.
Того, что случилось через неделю после их разговора, русский евнух ожидал меньше всего.
Он как раз присматривал за хозяйским ослом на тихой зеленой улице – этот квартал был словно перенесен сюда из какого-нибудь итальянского города! – как вдруг к Микитке подошел нищий, закутанный в рваный плащ: маленький оборвыш. Это не было редкостью в итальянских кварталах, как и в греческих; хотя турецкие стражники жестоко гоняли попрошаек палками, а то и саблями.
Микитка пошарил в кармане, ничего не нашел… как вдруг услышал смех. Нищий откинул капюшон.
- Мардоний! – ахнул евнух.
Микитка быстро огляделся.
- Но как ты…
- Ты совсем не умеешь скрываться и хитрить, варвар! Найти тебя было очень просто! – воскликнул Мардоний, широко улыбаясь. И Микитка вдруг впервые увидел в нем его неведомого ненавистного отца – разбойно-восточную небрежность, вместе с ромейским высокомерием.
- Я сбежал! – гордо объявил Мардоний: как будто было еще непонятно.
Микитка опомнился. Он встряхнул юного приятеля за слабые плечи.
- Ты что наделал!.. Теперь нам всем конец!
- Если ты не донесешь, никто не узнает, - возразил Мардоний. В эту минуту он казался храбрее Микитки – да, наверное, и был.
Микитка устыдился.
- Тебе нужно спрятаться… скоро придет мой хозяин.
Мардоний кивнул.
- Сейчас я исчезну!
И он отошел. Мгновение – и его уже не было рядом; а Микитка хлопнул себя по лбу в досаде, что не уследил. Этот мальчишка сейчас наделает дел! Заметит его кто-нибудь из домашних, и…
Но тут подошел хозяин, Джузеппе ди Альберто, - и Микитка сумел совладать со своими чувствами; а потом почти успокоился. В таком наряде узнать Мардония мог только тот, кто уже знал его как сына своего отца. Только бы мальчишка никуда не делся, пока Микитка занят!
Когда Микитка освободился и пошел по той же улице домой, его опять нагнал Мардоний, выросший будто из-под земли. Он поманил приятеля рукой, и они отошли на обочину и сели под деревьями. Над ними росла смоковница, под которой в траве валялось несколько попорченных солнцем и мухами фиг.
Мардоний схватил один плод и тут же вгрызся в него белыми зубами; Микитка взирал на юного аристократа в изумлении.
- Это владения…
Мардоний махнул на него рукой.
- Все равно чьи! Твои итальянцы никак не страшнее янычар!
Микитка понял, что Мардоний опасно опьянен своей первой маленькой победой, - порою даже добрые и честные люди, освободившись от долгого гнета и унижения, делались отъявленными разбойниками. А Мардоний еще и уязвленный аристократ, и разбойничье семя!
Мардоний вдруг опять поманил его к себе и, обхватив за шею, жарко прошептал на ухо:
- Они все думают, что я утонул… или утопился.
Микитка поперхнулся, хотя ничего не ел.
- Как?..
- Очень просто, - все еще гордясь собой, ответил мальчишка. – Я оставил свое платье на берегу… а этот плащ купил у нищего во Влахернах, там живет мой господин.
Тут Микитка заметил, что на Мардонии только сверху рванина, а штаны и рубаха на нем справные, только что некрашеные. И даже сандалии на ногах. Евнух покачал головой, хмурясь.
- А твой отец?
При этих словах улыбка на тонких пунцовых губах завяла.
- Он тоже думает, что я мертв.
Мардоний прерывисто вздохнул.
- Я видел сам, когда прятался, как меня искали… а потом Валент долго сидел на берегу с моей одеждой в руках, и никто не смел его задеть, даже турки…
Микитка вообразил, как приняла бы такое известие его мать, и ему стало дурно.
- А ты не думаешь, что ты не один такой умник? – хмуро спросил Микитка. – А ну как они разгадали твою хитрость?
Мардоний мотнул головой.
- Нет!
"А может, отец был даже и рад избавиться… от позора", - мелькнуло в голове у Микитки. Он не так уж много узнал об обычаях греков, но не сомневался, что Валент гордился сыном куда меньше, чем сын – отцом. Греческое аристократство до сих пор превыше всего ценило телесную силу, красоту и ловкость с оружием!
Правда, Мардоний был хорош собой, - но красотой более девической: скорее как евнух, чем как воитель. Подобно самому Микитке в его годы. Это была какая-то иная кровь, нежели у Феофано, - более восточная и темная; даже фамилия Мардония звучала не по-гречески, хотя все эти господа были ромеями.
- Откуда ты родом? – спросил Микитка.
- Из Македонии, - гордо ответил Мардоний. – Это искони православная земля*… а до тех пор была земля, славная победами.
- Я слышал, - кивнул Микитка.
Наверное, Аммонии пошли от каких-нибудь диких македонских вождей, переженившихся на пленных персиянках. Вот сокровище ему досталось! Микитка вздохнул.
- Теперь-то ты как думаешь быть?
Мардоний воззрился на него, точно это само собой разумелось.
- Как это – как думаю? Ты укроешь меня!
Микитка не ответил, поджав губы: на душе вдруг стало прескверно. А Мардоний прибавил:
- Вы, скифы, хоть и не горазды на выдумки, но своих не выдаете – я знаю!
Микитка оскорбился, вспомнив, как русские этериоты многие месяцы прятали у себя жен и детей – бывших рабов. И они, значит, без хитрости?
Он поднял глаза на Мардония и тут же опять потупился; на щеках расцвели малиновые пятна. И тут Мардоний наконец спохватился.
- Прости, я был с тобой груб!
Микитка хмуро посмотрел на него.
- Прощаю, так и быть.
Он сорвал травинку и раскусил, раздумывая, - и Мардоний теперь ждал почти благоговейно, не смея прервать его размышлений.
Наконец Микитка отбросил за спину длинные русые волосы и встал; Мардоний немедленно поднялся следом.
- Я тебя отведу к товарищам отца. Это неподалеку, - сказал евнух. – Но только ты никому не скажешь, кто ты такой!
Теперь Мардоний почти оробел.
- Хорошо… А что ты им скажешь?
- Скажу, что ты мой друг и сбежал от турок. Этого нашим будет достаточно, - отозвался Микитка, шагая вперед; Мардоний трусил рядом, заглядывая ему в глаза. – Но не думай, будто мы просты.
Мардоний вдруг бросился ему на шею и пылко поцеловал. Микитка чуть не отпихнул мальчишку от неожиданности, хотя давно наблюдал такие выражения приязни у пылких греков и итальянцев.
- Спасибо тебе! Ты истинный друг! – воскликнул мальчик.
И тут вдруг оба поняли, что Мардоний до сих пор не знает имени своего благодетеля, - и одновременно расхохотались.
- Но как тебя зовут, друг? – спросил Мардоний, успокоившись.
- Никита… "Петрович", - чуть не закончил Микитка.
- У тебя наше имя… Я очень рад, - сказал Мардоний, покраснев от радости и волнения. Они крепко пожали друг другу руки.
Через несколько шагов Микитка увидел знакомую калитку в белой стене – высокой и толстой, точно монастырская стена или ограда султанского гарема. Но калитка была не заперта; Микитка отворил ее и вошел, и Мардоний следом.
Микитка опять велел другу спрятаться. А потом ушел; и не было его довольно долго.
Вернулся русский евнух с высоким и дюжим мужчиной, голым по пояс: на плечах у воина еще блестели капли воды. Он только что обливался от жары. Спутник Микитки был очень загорелым, но с льняной головой и голубыми глазами.
- Ратша, - сказал Микитка изумленному витязю, когда навстречу им из кустов встал Мардоний. – Это мой друг, он бежал от турок! Он не понимает по-нашему!
- Видимое дело, - сказал Ратша, глядевший на смуглую черноту гостя.
Он склонился над мальчиком и положил ему руку на плечо; Мардоний едва не отпрянул.
- Ты кто таков? – спросил витязь по-гречески.
- Я…
Тут Мардоний покраснел и забыл, как собирался солгать. Да он и не сумел бы перед этим человеком!
Ратша кивнул и, похлопав мальчика по плечу, отвернулся. Он очень хорошо понимал, что стыд бывает разный.
Но на Микитку белоголовый русич посмотрел очень сурово.
- Прокормить его мы прокормим, кусок на такой рот найдется, - сказал он. – Но если с ним что-нибудь… я с тебя три шкуры спущу! Ты теперь за него в ответе!
Если с Мардонием выйдет "что-нибудь", хмуро подумал Микитка, спускать шкуры будет не Ратша…
- Он ничего не учудит, дядька Ратша. Я за него ручаюсь, - сказал Микитка - и посмотрел на Мардония. Тот ничего не понял из разговора старших, но понял, что речь о ручательстве: и серьезно кивнул.
Потом Микитке пришло время уходить; помогать матери. Мардоний попросил его приходить почаще. Ведь у него никого не осталось, кроме нового скифского друга!
- И приду, и тебе дело сыщу, - кивнул Микитка, вспоминая нежные руки Валентова сына. На прощанье Мардоний еще раз одарил его улыбкой и поцелуем. Микитка улыбнулся в ответ и направился прочь, думая: Господи, Господи.
* Мегарон - греческий дом прямоугольного плана с очагом посередине.
* На самом деле до освобождения от османского ига македонская церковь подчинялась попеременно Константинополю и Риму.
Re: Ставрос
Глава 99
Агата сидела за занавеской, отгораживавшей ее от всех, и плакала. Руки ее были сложены на тугом животе; лицо опухло от беременности и от слез. Ей было в эту минуту ненавистно все – считая и семью, и ребенка, которого она еще только готовилась произвести на свет. Но умереть она не могла. На самом деле у них осталось очень мало таких смельчаков, как малыш Мардоний, - и кто бы мог подумать, что…
За занавеской смеялись, хлопая в ладоши, - играя в какую-то игру, - турецкие служанки, от одного вида которых у Агаты начиналась тошнота, как в первые месяцы тяготы. В доме ее мужа было так невозможно много женщин, которые только и знали, что болтать ни о чем, есть и холить свое тело, - даже в этой комнате, считавшейся ее собственной, дочь Аммония не могла найти покоя!
Наконец, услышав новый взрыв бессмысленного смеха, она не вытерпела.
- Замолчите! – прикрикнула Агата по-турецки, раздвинув занавески; женщины тут же замолкли и склонились перед нею. Несмотря на то, что Алтын была только "маленькая госпожа", - младшая жена Ибрахима-паши, - служанки беспрекословно подчинялись ей. Хотя весь этот курятник, считая до самой старшей жены, квохтал и полошился, когда на женскую половину входил господин; и так же все женщины в доме смирялись перед другими мужчинами, считая даже мальчиков.
Впрочем, слуги-мужчины не могли им приказывать прямо – слуги-мужчины вообще не разговаривали с женщинами, подчиняясь своим турецким господам. О, как хорошо была построена эта клетка!
Агата услышала шаги снаружи, приглушенные коврами, потом испуганный шепот служанок; и поняла, что идет муж. Она знала, что турчанки при виде него склонятся до земли, и ей тоже следовало бы встать и приветствовать его поклоном…
Агата осталась сидеть, не заботясь о том, что растекшаяся сурьма измазала щеки.
Занавески раздвинула бесцеремонная рука, потом Алтын услышала тяжкие шаги толстяка совсем рядом – и вздох. Ибрахим-паша сел подле нее на подушки, повеяв на нее запахом мускуса. И не поворачиваясь, дочь Аммония знала, что его лицо при виде ее слез исказила обезьянья печаль, - эти турки порою вели себя как бабы даже друг с другом! Что ж удивляться тому, что у них нет ни порядка, ни закона – а только одно хотение?
Наконец муж пошевелил толстой рукой ее колено, вынудив повернуться.
- Что ты опять плачешь?
Ибрахим-паша говорил с ней по-гречески, потому что турецкий язык младшей жене давался туго – или она просто была глупа как женщина. Но не принуждать же ее учиться сейчас!
Он погладил ее по голове, покрытой платком, сколотым под подбородком.
- На все воля Аллаха… или Бога. Твоему брату сейчас хорошо, он упокоился с Мухаммедом.
- Откуда ты можешь знать? – выкрикнула Алтын, забыв, с кем говорит. – И как можешь такое говорить? Мой брат не был мусульманином! А самоубийцы и у нас, и у вас попадают в ад!..
Ибрахим-паша терпеливо улыбнулся, хотя глаза на миг стали очень холодными – Алтын не видела этого из-за своих слез.
- Он был еще юн и невинен. Аллах милосерд и примет его в свою обитель.
"А будь на его месте моя сестра, ты бы так не сказал… у вас женщинам словно даже у Господа нет уголка, или у вас не принято об этом говорить, как и упоминать женщин!"
Она почувствовала, как вторая рука мужа схватила ее за другое колено; потом он раздвинул их. Дочь Валента отвернулась совсем и опрокинулась на подушки, зная, что все скоро кончится – ее господин много сил тратил на других жен, более юных и красивых.
Она терпела, хотя это было не так и неприятно – к ее удивлению, несмотря на свое уродство, Ибрахим-паша скоро после свадьбы разжег в ней желание, которое именно тогда, когда она понесла, порою делалось острым. Словно бы оно не зависело от того, хорош или нет ее обладатель; а просто Агата созрела…
Когда все кончилось, она молча натянула штаны и одернула юбку. Ибрахим-паша еще некоторое время пыхтел рядом, одеваясь; потом опять потеребил ее рукав.
- Ты можешь пойти погулять. Тебе вредно все время сидеть взаперти!
Жена кивнула; но турок знал, что сама она ничего не сделает и никуда не пойдет, даже во вред себе и ребенку, – что за упрямство!
Но на то он и поставлен над нею господином, чтобы заботиться, когда она проявляет неразумие. Ибрахим-паша вперевалку вышел и приказал служанкам умыть и одеть свою госпожу для прогулки.
Агата вздохнула. Хорошо, что хотя бы во внутренний двор можно выходить с открытым лицом – и своими ногами, не в носилках! Как давно она уже не ступала по улицам Константинополя? Как давно не любовалась им… хотя она никогда не любовалась Городом так, как желала, - с земли и без охраны! Лишь мельком Агата теперь могла увидеть дворцы, сады и рощи, море, которое раньше ласкало всех, и мужей и жен! А ей не довелось даже окунуть руки и колени в эти воды, которые навеки упокоили ее младшего брата. Агате даже сейчас хотелось думать, что Мардония принял к себе священный Понт, а не Мухаммед, чтоб ему гореть в аду вместе со всеми учениками!
Агата опять рассеянно погладила живот. Можно сосчитать – она заперта здесь уже шестой месяц! С тех самых пор, как попала в дом градоначальника; зачала она почти сразу после свадьбы.
Агата почти не замечала, что с ней делают женщины, - ее умыли и заново накрасили, а потом, укутав в теплое покрывало, под руки повели наружу.
Тут она будто очнулась.
- София… Я хочу видеть Софию, - сказала она одной из служанок. Турчанка нахмурила начерненные брови – ей не нравилось это имя, слишком дерзкое для женщины: напоминавшее Айя-Софию, великую мечеть! Почему господин не настоял на том, чтобы этой гречанке тоже дали другое имя?
- Твоя сестра в саду, - с таким же неудовольствием ответила турчанка "маленькой госпоже". Ей не нравилось еще и то, что эта девушка слишком много времени проводит в саду, - так что даже работники-мужчины могут заметить ее! Но почему господин не желает ее обуздать, даже если она слишком стара для того, чтобы взять ее в наложницы, – у Ибрахима-паши уже есть четыре жены, дозволенные Аллахом, - обуздать ее тем более, что эта София слишком стара?
Агата через дверь-арку выступила в сад, - своими глазами образованной гречанки она заметила давно, что столичные греки еще до завоевания начали строиться по-османски, - и там наконец смогла остаться одна. Вернее сказать, голоса других женщин слышались поодаль, у фонтана: кажется, это были две старшие жены Ибрахима-паши, из которых самой старшей было всего семнадцать лет. Конечно, эти турчанки опять болтали о пустяках и ели сладости. Даже служанки в доме градоначальника имели больше свободы – и больше содержания для разговоров, чем госпожи! Хотя все равно этого содержания было ничтожно мало.
Гречанкам прежде принадлежал весь огромный греческий мир – и они радовались ему вместе со своими мужьями и братьями! А османская победа поставила между мужчинами и женщинами стену, и одни превратились в вечных узниц, а другие - в вечных тюремщиков. И были ли мужчины счастливы, властвуя так?
"Конечно, турецкие господа счастливы, - мужчина легко приспосабливается к своему возвеличению перед женщиной, и не представляет себе иного счастья, пусть его и ограничивают во всем другом!"
Но женщины – уста турецких женщин на замке, который еще очень долго не отомкнется. Даже друг с другом они приучены молчать – и, не получая образования, не зная жизни мужчин и жизни вовне, не имеют никакого основания, чтобы оспорить свое положение! Никто не узнает об их страданиях, пока не будет на то воли Аллаха.
Агата нашла Софию на скамье в укромном уголке сада, где старшая сестра сидела в одиночестве, погрузившись в раздумья, - такая же холеная, как Агата, так же заботливо облаченная в турецкий наряд, но нетронутая. Как ей повезло!
София услышала шаги сестры на посыпанной песком дорожке – и повернула голову, бледно улыбнувшись. У Софии были такие же черные глаза, как у отца и обоих братьев, - у Агаты просто карие: и взгляд этих глаз казался ей чуждым, словно открывалось окно в древнее персидское прошлое их семьи. Даже персидские жены были в лучшем положении, чем они сейчас! И языческие боги не отказывали им в покровительстве, допуская и до тайноведения!
София протянула сестре руку, когда Агата села рядом.
- Тебе опять там невмоготу?
Агата кивнула; больше слов было не нужно. В этой переполненной тюрьме они были словно одни – еще никогда прежде сестры не ощущали такого одиночества. Даже на прогулки в город, - редкие случаи, - их выносили отдельно друг от друга.
- Скоро зима… - прошептала София. Им было приятно, что теперь похолодало, хотя снега и нет, - холод не давал заснуть совсем! Как тут не заснешь, когда за тебя все решают, предопределяют каждый шаг?
- Море теперь холодное, - проговорила Агата; голос стал глухим от слез, и София поняла, о чем сестра думает. О чем они обе думали всякий раз, вспоминая о море.
- Я ему завидую, - сказала София: ее слова были жестоки, как плеть, взбадривающая раба. – Я бы хотела освободиться так, как наш брат, - или умереть сражаясь, как сражалась наша великая родственница! Как те женщины, что погибли в боях на улицах Константинополя!
- Так за чем же дело стало? Иди – попробуй украсть нож и заколоть моего мужа! Вот это будет славная смерть! – рассмеялась Агата. – И никто не скажет, что не геройская! Турки тебе устроят мученичество, достойное первых христиан!
София закусила губу, и в ее глазах отразилась мука; и Агата немедленно пожалела о своих насмешках.
- Я так не могу, - прошептала София с неподдельной горечью. – Я слаба! Я потеряла здесь все силы!
Агата молча обняла ее. Конечно, у них и прежде было не слишком много силы, - они ведь только женщины; а такая турецкая жизнь, в сытой праздности и безвестности, отняла и остатки воли. Хотя даже прежде своего пленения сестры бы на подобное безумство не осмелились.
Напасть на Ибрахима-пашу сейчас едва ли решился бы даже закаленный мужчина - даже готовый к смерти: этот несильный и нестрашный сам по себе человек был в Стамбуле самым могущественным после султана, а турецкая палаческая школа не знала себе равных.
- Может быть, нам навестить отца? Хоть так развлечемся! – вдруг предложила София. – Тебе господин позволит, тебе можно капризничать!
Агата закрыла глаза и закусила губу. София опять побуждала ее бороться – хотя их удары были для турок все равно что порка, которую царь Ксеркс когда-то приказал устроить морю, помешавшему его планам.*
- Нет, я не хочу навещать отца, - прошептала наконец младшая. – Всем будет только хуже. Мы даже в глаза друг другу смотреть не можем! И я не могу видеть его женщин!
Валенту сейчас принадлежали три молодые и красивые турчанки, из тех, которых султан предусмотрительно привез в обозе, для нужд своих подданных-мусульман или своих греческих вассалов; и одна из них была беременна, это Агата видела своими глазами. Когда она бывала в отцовском доме, то спрашивала о Валентовых наложницах и слуг, и сама слушала и высматривала, сколько возможно. И поняла, что Валент едва ли счастлив, отдав врагу так много, - даже приобретения его равнялись потерям!
Смерть сына еще больше озлобила его, хотя и прежде Валент отличался жестокостью, - он никогда особенно не любил Мардония, как и Дария, и нередко досадовал на них: считая почти никчемными, потому что оба так и не научились сражаться и не приобрели мужественного вида и характера. Но смерть Мардония для Валента Аммония значила еще больше, чем смерть сына для отца. Это был поступок, к которому он сам оказался не способен…
Так же, как и бегство Дария.
А турецкие жены его не утешали – правда, они были воспитаны в той самой покорности, какой, казалось, Валент всегда хотел от женщин; но, против ожидания, такой султанский подарок не принес ему ни радости, ни удовлетворения. Может быть, он все еще не забыл скифскую пленницу и свою жизнь с нею, - действительно счастливое время для них обоих! Или только теперь, получив турчанок, ощутил отвращение к ним – и понял, чего лишился, когда Феодора сбежала?
Он оставил жизнь в лоне только одной из них – уж не потому ли, что не желал плодить новых турок? Мехмед Фатих очень предусмотрительно раздаривал свои милости! А может… об этом сестрам страшно было даже подумать… Валент утрачивал мужскую силу?
Но, конечно, они не могли знать таких тайн; а знали только, что Валент нечасто проводит ночи со своими рабынями, а чаще избивает тех из них, кто попадается ему на глаза в минуты дурного настроения.
- А я съезжу в гости к отцу, - вдруг заявила София. – На меня он еще может прямо смотреть! И я знаю, что нужна ему.
Она склонилась к сестре.
- Агата, как можешь ты думать только о себе? Неужели тебе его не жаль?
Агата отвернулась. Ей было ужасно жаль их всех – но что изменится, если они начнут сыпать соль друг другу на раны? Притворяться, что достойно живут? Это еще унизительней!
- Кажется, Валенту подарили землю в Каппадокии, - вдруг произнесла София. – Ту самую, где мы скрывались… Он действительно богат теперь! Княжески богат!
Агата рассмеялась.
- Пожалуй, нам и в самом деле стоит навестить отца - подставить свои слабые плечи, а не то он не вынесет таких великих даров!
Она подумала, играя своим браслетом.
- Тебя не выпустят одну… я попрошусь с тобой.
Агата послала к господину служанку с просьбой отпустить ее с сестрой в гости к отцу; и Ибрахим-паша передал свое согласие и прислал, вместе с носильщиками, отряд янычар для охраны. Даже такие короткие прогулки, в пределах одного квартала, - отец тоже жил во Влахернах, - были опасны.
Тем более опасны, что голытьба, и особенно нищие греки, ополчились против своих новых господ и их женщин. Еще большую ненависть, что легко можно было понять, вызывали гречанки, сделавшиеся женами высокопоставленных турок. Правда, в носилках было не разглядеть лиц, и турецкие жены никогда не разговаривали с чужими. Все они – и победители, и побежденные – дружно способствовали окончательному порабощению греческого духа! Неудивительно, что османы покоряли все народы на своем пути, на каждом из них совершенствуя свое искусство управлять!
София и Агата тщательно нарядились, унизав руки браслетами, вставив в уши золотые серьги-кольца и надев под свои дорогие платья теплые штаны и сапоги. Такой полумужской костюм, который часто носили турчанки, был удобен и даже по-своему красив – если бы не сопрягался со всеми прочими турецкими понятиями!
Сестер посадили в одни носилки и понесли, выкрикивая имя их господина, - и Ибрахим-паша успел вселить в горожан такой страх, что стражникам не потребовалось ни одного удара палкой.
Валент Аммоний жил в доме, который напоминал их родовой особняк и дом их дяди Дионисия, - так же богато и крикливо украшенный, строившийся еще прежними хозяевами-греками так, чтобы повергать в трепет всякого простолюдина. Мрамор, гранит, порфир, позолота и мозаика - статуи в нишах и кариатиды*, созданные для услаждения взоров хозяев и теперь потерявшие свое значение так же, как сами хозяева забыли свое родство.
Валент вышел к ним навстречу один – он был одет легко, почти по-прежнему, в длинный шелковый халат, который очень ему шел. Дом топили, хотя дерева в городе было мало, - и поэтому отец предложил Софии и Агате переобуться в легкие туфли.
Валент, казалось, совсем не ожидал их посещения – и был ему действительно рад. Нет, отец еще не превратился в турка, который разучился разговаривать с женщинами, даже в своей семье!
Когда София и Агата вошли в гостиную и уселись на диван, а хозяин приказал подать им воду с розовым маслом, любимое угощение турок, сестры рассмотрели его. Валент Аммоний немного постарел, но не утратил своего превосходного здоровья и силы; только морщинки у глаз и белые прядки, кое-где прострелившие густые черные волосы, напоминали, что он переступил сорокалетний порог.
И мужской силы, он, по-видимому, ничуть не утратил. Сестры знали, что это бывает заметно по мужчинам, - у них потухают глаза… и на женщин они начинают смотреть совсем иначе. Валент же не выглядел… обделенным. Он казался мужчиной, которого главные свершения ожидают впереди.
Когда Валент отвернулся, сестры переглянулись: они все поняли без слов. Конечно, отец думал о Феодоре; и надеялся вернуть свое прошлое! Возможно ли это?
Для того, кто сильно желает, невозможного мало. А Валент Аммоний всегда умел желать и добиваться своего.
Впрочем, никто из семьи сейчас не говорил о том, что было для них главным, - а только о пустяках. Они уже научились этому турецкому искусству.
Валент немного расспросил их о том, как они поживают, - и дочери, почти ничего не видевшие за стенами дома, немного нового могли ему сказать. Впрочем, им не было скучно друг с другом: вместе Аммонии ощущали радость, боль, стыд, которые не могли разделить ни с кем другим – и которых никто извне не понял бы. Потом Агата спросила – правда ли, что отец собирается уезжать в Каппадокию?
Это было сказано наугад, ничего подобного они не слышали, - но Валент после небольшой заминки ответил утвердительно. Да, он уедет в ту землю, которая теперь принадлежит ему по праву, и там будет настоящим господином!
Агата ощутила, как София пожала ее руку. Они превосходно понимали друг друга! Валент будет укреплять власть султана в Каппадокии, сделавшись его наместником, - и еще раз попытается добраться до своей московитки и своего сына! Он еще больше хочет этого, потеряв и Дария, и Мардония!
Впрочем, беседа их скоро иссякла; и они распрощались. На прощанье Валент обнял обеих дочерей, и ни София, ни Агата не отстранились.
Валент Аммоний уехал через две недели после этого свидания, бросив в Стамбуле весь свой гарем; и пропал на несколько месяцев, как уже пропадал раньше. Уже без него Агата родила Валенту первого внука – и третьего сына Ибрахима-паши, которому дали имя Бора.
Юная наложница Валента Аммония, Саадат, еще раньше в отсутствие господина родила дочь.
* Исторический факт.
* Статуи одетых женщин, в греческом зодчестве заменявшие собой колонну или пилястру (фальшивую колонну).
Агата сидела за занавеской, отгораживавшей ее от всех, и плакала. Руки ее были сложены на тугом животе; лицо опухло от беременности и от слез. Ей было в эту минуту ненавистно все – считая и семью, и ребенка, которого она еще только готовилась произвести на свет. Но умереть она не могла. На самом деле у них осталось очень мало таких смельчаков, как малыш Мардоний, - и кто бы мог подумать, что…
За занавеской смеялись, хлопая в ладоши, - играя в какую-то игру, - турецкие служанки, от одного вида которых у Агаты начиналась тошнота, как в первые месяцы тяготы. В доме ее мужа было так невозможно много женщин, которые только и знали, что болтать ни о чем, есть и холить свое тело, - даже в этой комнате, считавшейся ее собственной, дочь Аммония не могла найти покоя!
Наконец, услышав новый взрыв бессмысленного смеха, она не вытерпела.
- Замолчите! – прикрикнула Агата по-турецки, раздвинув занавески; женщины тут же замолкли и склонились перед нею. Несмотря на то, что Алтын была только "маленькая госпожа", - младшая жена Ибрахима-паши, - служанки беспрекословно подчинялись ей. Хотя весь этот курятник, считая до самой старшей жены, квохтал и полошился, когда на женскую половину входил господин; и так же все женщины в доме смирялись перед другими мужчинами, считая даже мальчиков.
Впрочем, слуги-мужчины не могли им приказывать прямо – слуги-мужчины вообще не разговаривали с женщинами, подчиняясь своим турецким господам. О, как хорошо была построена эта клетка!
Агата услышала шаги снаружи, приглушенные коврами, потом испуганный шепот служанок; и поняла, что идет муж. Она знала, что турчанки при виде него склонятся до земли, и ей тоже следовало бы встать и приветствовать его поклоном…
Агата осталась сидеть, не заботясь о том, что растекшаяся сурьма измазала щеки.
Занавески раздвинула бесцеремонная рука, потом Алтын услышала тяжкие шаги толстяка совсем рядом – и вздох. Ибрахим-паша сел подле нее на подушки, повеяв на нее запахом мускуса. И не поворачиваясь, дочь Аммония знала, что его лицо при виде ее слез исказила обезьянья печаль, - эти турки порою вели себя как бабы даже друг с другом! Что ж удивляться тому, что у них нет ни порядка, ни закона – а только одно хотение?
Наконец муж пошевелил толстой рукой ее колено, вынудив повернуться.
- Что ты опять плачешь?
Ибрахим-паша говорил с ней по-гречески, потому что турецкий язык младшей жене давался туго – или она просто была глупа как женщина. Но не принуждать же ее учиться сейчас!
Он погладил ее по голове, покрытой платком, сколотым под подбородком.
- На все воля Аллаха… или Бога. Твоему брату сейчас хорошо, он упокоился с Мухаммедом.
- Откуда ты можешь знать? – выкрикнула Алтын, забыв, с кем говорит. – И как можешь такое говорить? Мой брат не был мусульманином! А самоубийцы и у нас, и у вас попадают в ад!..
Ибрахим-паша терпеливо улыбнулся, хотя глаза на миг стали очень холодными – Алтын не видела этого из-за своих слез.
- Он был еще юн и невинен. Аллах милосерд и примет его в свою обитель.
"А будь на его месте моя сестра, ты бы так не сказал… у вас женщинам словно даже у Господа нет уголка, или у вас не принято об этом говорить, как и упоминать женщин!"
Она почувствовала, как вторая рука мужа схватила ее за другое колено; потом он раздвинул их. Дочь Валента отвернулась совсем и опрокинулась на подушки, зная, что все скоро кончится – ее господин много сил тратил на других жен, более юных и красивых.
Она терпела, хотя это было не так и неприятно – к ее удивлению, несмотря на свое уродство, Ибрахим-паша скоро после свадьбы разжег в ней желание, которое именно тогда, когда она понесла, порою делалось острым. Словно бы оно не зависело от того, хорош или нет ее обладатель; а просто Агата созрела…
Когда все кончилось, она молча натянула штаны и одернула юбку. Ибрахим-паша еще некоторое время пыхтел рядом, одеваясь; потом опять потеребил ее рукав.
- Ты можешь пойти погулять. Тебе вредно все время сидеть взаперти!
Жена кивнула; но турок знал, что сама она ничего не сделает и никуда не пойдет, даже во вред себе и ребенку, – что за упрямство!
Но на то он и поставлен над нею господином, чтобы заботиться, когда она проявляет неразумие. Ибрахим-паша вперевалку вышел и приказал служанкам умыть и одеть свою госпожу для прогулки.
Агата вздохнула. Хорошо, что хотя бы во внутренний двор можно выходить с открытым лицом – и своими ногами, не в носилках! Как давно она уже не ступала по улицам Константинополя? Как давно не любовалась им… хотя она никогда не любовалась Городом так, как желала, - с земли и без охраны! Лишь мельком Агата теперь могла увидеть дворцы, сады и рощи, море, которое раньше ласкало всех, и мужей и жен! А ей не довелось даже окунуть руки и колени в эти воды, которые навеки упокоили ее младшего брата. Агате даже сейчас хотелось думать, что Мардония принял к себе священный Понт, а не Мухаммед, чтоб ему гореть в аду вместе со всеми учениками!
Агата опять рассеянно погладила живот. Можно сосчитать – она заперта здесь уже шестой месяц! С тех самых пор, как попала в дом градоначальника; зачала она почти сразу после свадьбы.
Агата почти не замечала, что с ней делают женщины, - ее умыли и заново накрасили, а потом, укутав в теплое покрывало, под руки повели наружу.
Тут она будто очнулась.
- София… Я хочу видеть Софию, - сказала она одной из служанок. Турчанка нахмурила начерненные брови – ей не нравилось это имя, слишком дерзкое для женщины: напоминавшее Айя-Софию, великую мечеть! Почему господин не настоял на том, чтобы этой гречанке тоже дали другое имя?
- Твоя сестра в саду, - с таким же неудовольствием ответила турчанка "маленькой госпоже". Ей не нравилось еще и то, что эта девушка слишком много времени проводит в саду, - так что даже работники-мужчины могут заметить ее! Но почему господин не желает ее обуздать, даже если она слишком стара для того, чтобы взять ее в наложницы, – у Ибрахима-паши уже есть четыре жены, дозволенные Аллахом, - обуздать ее тем более, что эта София слишком стара?
Агата через дверь-арку выступила в сад, - своими глазами образованной гречанки она заметила давно, что столичные греки еще до завоевания начали строиться по-османски, - и там наконец смогла остаться одна. Вернее сказать, голоса других женщин слышались поодаль, у фонтана: кажется, это были две старшие жены Ибрахима-паши, из которых самой старшей было всего семнадцать лет. Конечно, эти турчанки опять болтали о пустяках и ели сладости. Даже служанки в доме градоначальника имели больше свободы – и больше содержания для разговоров, чем госпожи! Хотя все равно этого содержания было ничтожно мало.
Гречанкам прежде принадлежал весь огромный греческий мир – и они радовались ему вместе со своими мужьями и братьями! А османская победа поставила между мужчинами и женщинами стену, и одни превратились в вечных узниц, а другие - в вечных тюремщиков. И были ли мужчины счастливы, властвуя так?
"Конечно, турецкие господа счастливы, - мужчина легко приспосабливается к своему возвеличению перед женщиной, и не представляет себе иного счастья, пусть его и ограничивают во всем другом!"
Но женщины – уста турецких женщин на замке, который еще очень долго не отомкнется. Даже друг с другом они приучены молчать – и, не получая образования, не зная жизни мужчин и жизни вовне, не имеют никакого основания, чтобы оспорить свое положение! Никто не узнает об их страданиях, пока не будет на то воли Аллаха.
Агата нашла Софию на скамье в укромном уголке сада, где старшая сестра сидела в одиночестве, погрузившись в раздумья, - такая же холеная, как Агата, так же заботливо облаченная в турецкий наряд, но нетронутая. Как ей повезло!
София услышала шаги сестры на посыпанной песком дорожке – и повернула голову, бледно улыбнувшись. У Софии были такие же черные глаза, как у отца и обоих братьев, - у Агаты просто карие: и взгляд этих глаз казался ей чуждым, словно открывалось окно в древнее персидское прошлое их семьи. Даже персидские жены были в лучшем положении, чем они сейчас! И языческие боги не отказывали им в покровительстве, допуская и до тайноведения!
София протянула сестре руку, когда Агата села рядом.
- Тебе опять там невмоготу?
Агата кивнула; больше слов было не нужно. В этой переполненной тюрьме они были словно одни – еще никогда прежде сестры не ощущали такого одиночества. Даже на прогулки в город, - редкие случаи, - их выносили отдельно друг от друга.
- Скоро зима… - прошептала София. Им было приятно, что теперь похолодало, хотя снега и нет, - холод не давал заснуть совсем! Как тут не заснешь, когда за тебя все решают, предопределяют каждый шаг?
- Море теперь холодное, - проговорила Агата; голос стал глухим от слез, и София поняла, о чем сестра думает. О чем они обе думали всякий раз, вспоминая о море.
- Я ему завидую, - сказала София: ее слова были жестоки, как плеть, взбадривающая раба. – Я бы хотела освободиться так, как наш брат, - или умереть сражаясь, как сражалась наша великая родственница! Как те женщины, что погибли в боях на улицах Константинополя!
- Так за чем же дело стало? Иди – попробуй украсть нож и заколоть моего мужа! Вот это будет славная смерть! – рассмеялась Агата. – И никто не скажет, что не геройская! Турки тебе устроят мученичество, достойное первых христиан!
София закусила губу, и в ее глазах отразилась мука; и Агата немедленно пожалела о своих насмешках.
- Я так не могу, - прошептала София с неподдельной горечью. – Я слаба! Я потеряла здесь все силы!
Агата молча обняла ее. Конечно, у них и прежде было не слишком много силы, - они ведь только женщины; а такая турецкая жизнь, в сытой праздности и безвестности, отняла и остатки воли. Хотя даже прежде своего пленения сестры бы на подобное безумство не осмелились.
Напасть на Ибрахима-пашу сейчас едва ли решился бы даже закаленный мужчина - даже готовый к смерти: этот несильный и нестрашный сам по себе человек был в Стамбуле самым могущественным после султана, а турецкая палаческая школа не знала себе равных.
- Может быть, нам навестить отца? Хоть так развлечемся! – вдруг предложила София. – Тебе господин позволит, тебе можно капризничать!
Агата закрыла глаза и закусила губу. София опять побуждала ее бороться – хотя их удары были для турок все равно что порка, которую царь Ксеркс когда-то приказал устроить морю, помешавшему его планам.*
- Нет, я не хочу навещать отца, - прошептала наконец младшая. – Всем будет только хуже. Мы даже в глаза друг другу смотреть не можем! И я не могу видеть его женщин!
Валенту сейчас принадлежали три молодые и красивые турчанки, из тех, которых султан предусмотрительно привез в обозе, для нужд своих подданных-мусульман или своих греческих вассалов; и одна из них была беременна, это Агата видела своими глазами. Когда она бывала в отцовском доме, то спрашивала о Валентовых наложницах и слуг, и сама слушала и высматривала, сколько возможно. И поняла, что Валент едва ли счастлив, отдав врагу так много, - даже приобретения его равнялись потерям!
Смерть сына еще больше озлобила его, хотя и прежде Валент отличался жестокостью, - он никогда особенно не любил Мардония, как и Дария, и нередко досадовал на них: считая почти никчемными, потому что оба так и не научились сражаться и не приобрели мужественного вида и характера. Но смерть Мардония для Валента Аммония значила еще больше, чем смерть сына для отца. Это был поступок, к которому он сам оказался не способен…
Так же, как и бегство Дария.
А турецкие жены его не утешали – правда, они были воспитаны в той самой покорности, какой, казалось, Валент всегда хотел от женщин; но, против ожидания, такой султанский подарок не принес ему ни радости, ни удовлетворения. Может быть, он все еще не забыл скифскую пленницу и свою жизнь с нею, - действительно счастливое время для них обоих! Или только теперь, получив турчанок, ощутил отвращение к ним – и понял, чего лишился, когда Феодора сбежала?
Он оставил жизнь в лоне только одной из них – уж не потому ли, что не желал плодить новых турок? Мехмед Фатих очень предусмотрительно раздаривал свои милости! А может… об этом сестрам страшно было даже подумать… Валент утрачивал мужскую силу?
Но, конечно, они не могли знать таких тайн; а знали только, что Валент нечасто проводит ночи со своими рабынями, а чаще избивает тех из них, кто попадается ему на глаза в минуты дурного настроения.
- А я съезжу в гости к отцу, - вдруг заявила София. – На меня он еще может прямо смотреть! И я знаю, что нужна ему.
Она склонилась к сестре.
- Агата, как можешь ты думать только о себе? Неужели тебе его не жаль?
Агата отвернулась. Ей было ужасно жаль их всех – но что изменится, если они начнут сыпать соль друг другу на раны? Притворяться, что достойно живут? Это еще унизительней!
- Кажется, Валенту подарили землю в Каппадокии, - вдруг произнесла София. – Ту самую, где мы скрывались… Он действительно богат теперь! Княжески богат!
Агата рассмеялась.
- Пожалуй, нам и в самом деле стоит навестить отца - подставить свои слабые плечи, а не то он не вынесет таких великих даров!
Она подумала, играя своим браслетом.
- Тебя не выпустят одну… я попрошусь с тобой.
Агата послала к господину служанку с просьбой отпустить ее с сестрой в гости к отцу; и Ибрахим-паша передал свое согласие и прислал, вместе с носильщиками, отряд янычар для охраны. Даже такие короткие прогулки, в пределах одного квартала, - отец тоже жил во Влахернах, - были опасны.
Тем более опасны, что голытьба, и особенно нищие греки, ополчились против своих новых господ и их женщин. Еще большую ненависть, что легко можно было понять, вызывали гречанки, сделавшиеся женами высокопоставленных турок. Правда, в носилках было не разглядеть лиц, и турецкие жены никогда не разговаривали с чужими. Все они – и победители, и побежденные – дружно способствовали окончательному порабощению греческого духа! Неудивительно, что османы покоряли все народы на своем пути, на каждом из них совершенствуя свое искусство управлять!
София и Агата тщательно нарядились, унизав руки браслетами, вставив в уши золотые серьги-кольца и надев под свои дорогие платья теплые штаны и сапоги. Такой полумужской костюм, который часто носили турчанки, был удобен и даже по-своему красив – если бы не сопрягался со всеми прочими турецкими понятиями!
Сестер посадили в одни носилки и понесли, выкрикивая имя их господина, - и Ибрахим-паша успел вселить в горожан такой страх, что стражникам не потребовалось ни одного удара палкой.
Валент Аммоний жил в доме, который напоминал их родовой особняк и дом их дяди Дионисия, - так же богато и крикливо украшенный, строившийся еще прежними хозяевами-греками так, чтобы повергать в трепет всякого простолюдина. Мрамор, гранит, порфир, позолота и мозаика - статуи в нишах и кариатиды*, созданные для услаждения взоров хозяев и теперь потерявшие свое значение так же, как сами хозяева забыли свое родство.
Валент вышел к ним навстречу один – он был одет легко, почти по-прежнему, в длинный шелковый халат, который очень ему шел. Дом топили, хотя дерева в городе было мало, - и поэтому отец предложил Софии и Агате переобуться в легкие туфли.
Валент, казалось, совсем не ожидал их посещения – и был ему действительно рад. Нет, отец еще не превратился в турка, который разучился разговаривать с женщинами, даже в своей семье!
Когда София и Агата вошли в гостиную и уселись на диван, а хозяин приказал подать им воду с розовым маслом, любимое угощение турок, сестры рассмотрели его. Валент Аммоний немного постарел, но не утратил своего превосходного здоровья и силы; только морщинки у глаз и белые прядки, кое-где прострелившие густые черные волосы, напоминали, что он переступил сорокалетний порог.
И мужской силы, он, по-видимому, ничуть не утратил. Сестры знали, что это бывает заметно по мужчинам, - у них потухают глаза… и на женщин они начинают смотреть совсем иначе. Валент же не выглядел… обделенным. Он казался мужчиной, которого главные свершения ожидают впереди.
Когда Валент отвернулся, сестры переглянулись: они все поняли без слов. Конечно, отец думал о Феодоре; и надеялся вернуть свое прошлое! Возможно ли это?
Для того, кто сильно желает, невозможного мало. А Валент Аммоний всегда умел желать и добиваться своего.
Впрочем, никто из семьи сейчас не говорил о том, что было для них главным, - а только о пустяках. Они уже научились этому турецкому искусству.
Валент немного расспросил их о том, как они поживают, - и дочери, почти ничего не видевшие за стенами дома, немного нового могли ему сказать. Впрочем, им не было скучно друг с другом: вместе Аммонии ощущали радость, боль, стыд, которые не могли разделить ни с кем другим – и которых никто извне не понял бы. Потом Агата спросила – правда ли, что отец собирается уезжать в Каппадокию?
Это было сказано наугад, ничего подобного они не слышали, - но Валент после небольшой заминки ответил утвердительно. Да, он уедет в ту землю, которая теперь принадлежит ему по праву, и там будет настоящим господином!
Агата ощутила, как София пожала ее руку. Они превосходно понимали друг друга! Валент будет укреплять власть султана в Каппадокии, сделавшись его наместником, - и еще раз попытается добраться до своей московитки и своего сына! Он еще больше хочет этого, потеряв и Дария, и Мардония!
Впрочем, беседа их скоро иссякла; и они распрощались. На прощанье Валент обнял обеих дочерей, и ни София, ни Агата не отстранились.
Валент Аммоний уехал через две недели после этого свидания, бросив в Стамбуле весь свой гарем; и пропал на несколько месяцев, как уже пропадал раньше. Уже без него Агата родила Валенту первого внука – и третьего сына Ибрахима-паши, которому дали имя Бора.
Юная наложница Валента Аммония, Саадат, еще раньше в отсутствие господина родила дочь.
* Исторический факт.
* Статуи одетых женщин, в греческом зодчестве заменявшие собой колонну или пилястру (фальшивую колонну).
Re: Ставрос
Глава 100
Мардония искали долго – и сын младшего Аммония знал, что поиски эти направляет не только отцовская воля. Ибрахим-паша был по-женски злопамятен, изощрен и мстителен: этим турки отличались еще более греков.
Московиты вместе с юным греческим аристократом, принятым на поруки, не видели близко публичных казней – Стамбул был слишком велик, и итальянских кварталов гнев победителей не опалял. Мехмед и его советники именно сейчас особенно нуждались в мире с папой – католическая церковь оставалась столь же жестоким и упорным врагом, разящим мечом христианства: так же, как мягкая греческая церковь была душою Христова учения. Но католики и их подопечные, конечно, слышали о расправах, одно описание которых трудно было вынести, - турки сажали бунтовщиков и преступников на кол, притом таким хитроумным способом, с поперечиной, что тело долго скользило вниз, и муки казнимого продлевались на несколько часов; варили живьем, сажали ослушников в выгребные ямы, где выдерживали сутками, заставляя нырять с головой…
Может быть, кто-то из горожан за эти месяцы пострадал и по вине Мардония – только потому, что тот не захотел стать турецким наложником: тогда как эта участь была далеко не худшей и весьма частой!
Но если бы ему опять пришлось решать свою судьбу, Мардоний поступил бы так же. Он повзрослел и понял, что взросление мужчины означает готовность к сознательному страданию во имя чего-то, что выше и больше него. Он тоже строил свою душу!
Поиски, однако, кончились; и кончились ничем. У градоначальника было слишком много забот; может быть, он наконец причислил Мардония к мертвым и махнул на мальчишку рукой.
За это время сын Валента едва ли не впервые в жизни почувствовал себя нужным и дорогим человеком; не желая быть обузой, он учился нескольким ремеслам, которые прежде презирал, следом за отцом считая женскими, и радовался, когда его хвалили за успехи. Впрочем, Мардоний сам рассказывал Микитке, что в Блистательной Порте все мужчины обучались какому-нибудь ремеслу, считая и самых знатных. Русский евнух удивился и похвалил такой турецкий обычай; и Мардоний тоже признал его полезность. С него быстро облетела избалованность, не затронувшая его чистой и глубокой души – одной из тех замечательных восточных душ, которые часто находят себе прибежище именно в тонких и неразвитых телах.
Мардоний почти сразу привязался к Микитке, полюбил его, как единственного человека, которому мог открыться, – и вначале даже слишком льнул к своему новому другу; но потом почувствовал, что московит не хочет такой близости. Мардоний догадался, что этому может быть даже не одна причина, известная им обоим, - а несколько причин. Может быть, сын Аммония узнал кое-что стороной, в обход Микитки… но спустя некоторое время перестал к нему ластиться, держась с дружелюбным достоинством сына благородных родителей. Но внутри у Мардония засела та же боль, что и у Микитки: оба сделались вынужденными одиночками.
Но, несмотря на это, они стали один для другого самыми близкими друзьями, которых могли иметь, – вдвоем они переговорили о многом, о чем молчали со всеми остальными; но им было хорошо даже молчать вместе целыми часами, занимаясь шитьем или вязанием. Мардоний, как и его старший товарищ, скоро почувствовал, что у него нет воинского призвания: и теперь ему не перед кем было этого стыдиться. Тавроскифы, которых сын Аммония зауважал еще больше, узнав ближе, уважали все честные занятия.
Микитка почти сразу был вынужден представить своего подопечного Евдокии Хрисанфовне – конечно, мать дозналась о госте очень скоро, от мужа ли, от его ли товарищей, было не так уж важно. Все они почитали жену своего старшего – здесь, на чужой земле, она была для русов не меньше княгини; а зоркостью своего сердца и мудростью суда заслуживала такого звания.
Мардоний ощутил влечение к этой русской женщине – и страх перед нею: такое же смущение ума, какое его брат ощущал перед лицом Феофано, даже еще больше. В Евдокии Хрисанфовне была какая-то основательность, правда неведомой Мардонию матери-земли, которой не имели даже лучшие гречанки, – основательность и правда, свойственная едва ли не больше всего русским женщинам!
И, конечно, Евдокия Хрисанфовна догадалась, что Мардоний непрост и сын далеко не простых родителей; и что за ним тянется долгий кровавый хвост, который мальчик очень хотел бы, но не мог оборвать.
Но она ничего лишнего не спросила – и даже вовсе ничего не спросила, удовольствовавшись тем, что Мардоний рассказал ей сам. А он едва ли не поведал больше, чем следовало, - отчего-то вдруг безрассудно захотев довериться ее власти и участию!
Оставшись вдвоем с Микиткой, Мардоний сказал ему - все еще помня теплый, но зоркий взгляд и теплую руку, гладившую его волосы:
- Я бы хотел, чтобы у меня была такая мать!
Микитка знал, что Мардоний очень рано осиротел, - что он почти забыл ту, что дала ему жизнь. И евнух сказал, понимая тоску друга:
- Евдокия Хрисанфовна нам всем мать…
Микитка печально улыбнулся, сознавая то особенное значение, которое его мать приобрела для всех русов здесь.
- И тебе теперь – тоже, - закончил он, положив руку Мардонию на плечо.
Валент Аммоний стал известным в городе вельможей и милостником султана; это было уже и вовсе не стыдно – наоборот, он вызывал зависть многих ромеев, не сумевших пробиться так высоко. Насмешка судьбы была в том, что у Валента кусок с султанского стола застревал в горле…
Мардоний, конечно, избегал показываться во Влахернах, но некоторые пронырливые слуги из итальянских домов крутились там и приносили московитам самые свежие новости.
Услышав об отбытии Валента в Каппадокию, Мардоний испугался – не за отца, а за Феофано. Он чувствовал сердце отца не хуже старших сестер.
- Валент сначала посидит в ваших горах, - сказал Микитка, когда младший друг поделился с ним своими опасениями. – Такие дела не вдруг делаются! Силу свою упрочит и султану как следует поклонится. Горы не Стамбул, в кулаке не сожмешь – там небось люди и посейчас кровью обливаются, турок нещадно бьют!
Микитка усмехнулся.
- Твой отец еще много крови прольет, прежде чем их уймет! Что ж, охота пуще неволи!
Русский евнух покачал головой.
- Сдается мне, брат Мардоний, это Валент так султана обманывает, да и самого себя заодно… будет сидеть там и править, точно он вольный!
Мардоний задумчиво кивнул.
- Наверное, ты прав… Если бы мой отец вызвал султана на бой, он бы убил его, - вдруг вздохнул мальчик. – Как жаль, что так нельзя!
Микитка покосился на приятеля.
- Ну, ты же не вызовешь на бой мою мать, а слушаешь ее, - заметил он. – Власть штука прехитрая, в каждом монастыре свой устав. Все от Бога.
Друзья долго молчали.
- Я никогда не видел Феофано своими глазами, - вдруг сказал Мардоний. – Хотел бы я на нее посмотреть!
Микитка насупился.
- Этого еще долго жди…
Он подумал и прибавил:
- И в сказки не больно-то верь. Что тебе в твоей тетке? Ну, храбрая, сильная… честь ей и хвала! А и все равно: такая же смертная плоть, как все мы. Что ни есть в ней доброго, все от Бога.
Мардоний слабо улыбнулся тонкими губами.
- Как хорошо ты говоришь… Я будто священника слушал, - сказал он. – А я ведь много лет уже в церкви не бывал.
Он склонил черную, как смоль, голову.
- Феофано, наверное, тоже давно не бывала. Там все уже не то. Не зря Бог попустил наши святые церкви порушить!
Микитка сурово взглянул на него – и вдруг толкнул в слабую грудь, так что Мардоний покачнулся и вскрикнул.
- Ты эту храмину сбереги, - сказал московит сурово. – Ее строить долго, а сгубить – плевое дело! Укрепляйся сейчас на годы вперед!
Он помолчал.
- И по-новому укрепляйся – старое время кончилось!
"Фома!
Если бы ты знал, как я устала от тебя… Сколько можно лгать ребенку? И какая правда лучше, и какая ложь?
Я не спрашиваю, почему ты не хочешь отдать мне Варда, - но подумай, сколько он уже понимает. Моего греха сын не видит, и никто из наших в здравом уме ему не скажет. Детей оберегают от куда худших зол, чем это, - неужели я должна напоминать тебе?
Подумай, муж мой, что ты подвергаешь Варда такой же опасности, как и себя! Ты не даешь ему учиться; а Метаксия говорит, и я в этом совершенно согласна с нею, что этих упущенных детских лет потом ничем не восполнить.
Я пишу и с горечью думаю о Лаконии, где такие союзы, как наш с Метаксией, были узаконены: как между мужами, так и между женами*; и Лакония порождала лучших воинов на свете. Дело не в том, каков любовный обычай, - вернее сказать, далеко не только в этом: нравственность ребенка складывается из всего, тебе ли этого не понимать! Вы, ромеи, примерили на себя столько нравственных образцов! И не может быть одного образца на все случаи.
Господи, и зачем я сейчас перед тобой распинаюсь… Ты ведь все равно не послушаешь. Неужели ты вынудишь меня отобрать сына силой? Я смогу, если захочу! Тебе мало той войны, которая нависла над всеми нами, - которая только ненадолго отодвинулась?
Я взываю к твоему разуму и сердцу, Фома, - пожалуйста, привези Варда назад; или это может очень плохо кончиться для нас всех.
Я тебя всегда любила. Не делайся мне врагом!
Желань Браздовна"
"Salve vobis*, сколько вас там ни есть, мои отважные спартанцы!
Я тоже всегда тебя любил, дорогая супруга. Если бы ты знала, как приятно наконец получить твое полное внимание! Сколько раз я говорил тебе, что нельзя пренебрегать святостью брака, - как и своим законным мужем!
Нет, я не отдам тебе сына сейчас.
Надеюсь, ты понимаешь, что дитя нельзя увезти силой? Ты нанесла Варду уже достаточно душевных ран, как и его отцу!
Будь покойна насчет его воспитания. Вард не скучает - и тело, и ум его в развитии. Я занимаюсь с ним гимнастикой, так же, как делала ты, - и малыш столь же охотно учится по-латыни, как учился у вас по-гречески; а если бы ты видела, как он слушает истории римских императоров, которые я читаю ему вечерами! Ты бы ни за что не захотела отобрать сына у меня.
Я вынудил тебя с моей сестрой по-настоящему познакомить Варда с отцом, чтобы вы перестали наконец кормить его завтраками и сказками. Может, я и не лучший из отцов, - но ведь и ты, надеюсь, не назовешь себя лучшей из матерей?
Как-то мы с тобой спорили, какая мера лжи допустима с нашим сыном; и я согласен, что ложь необходима. Но Вард должен чувствовать отцовскую любовь – и уверяю тебя, что он получает ее в избытке, и мы с ним прекрасно ладим.
Я знаю – ты спросишь, скучает ли он по матери и сестре? Конечно, скучает. Теперь я вижу, какой ты была матерью все то время, что не пускала меня к сыну: тебя он поминает через слово. И теперь настал мой черед лгать Варду о тебе, как ты лгала ему обо мне. Думаю, ты признаешь, что это справедливо.
Теперь я спрошу тебя со всею серьезностью: когда ты намеревалась рассказать сыну о своей связи с Метаксией? Не можешь же ты промолчать всю жизнь! А если ему расскажут об этом чужие люди?
Я пока молчу; но, как ты верно заметила, Феодора, Вард сознает все больше вокруг себя. Ты не забыла, что две недели назад ему исполнилось пять лет? Мы с ним отпраздновали его рожденье без тебя!
Больше года прошло с того дня, как пал Константинополь, - и совсем, совсем скоро наш Вард поймет, что это такое. Не понял бы и других ужасных вещей.
Нет, дорогая, я не угрожаю тебе – я только сокрушаюсь и тоскую. Если бы ты вернулась домой! Как у нас теперь хорошо! Нет больше Олимпа, и твоей статуи тоже нет, - но в остальном дом таков же, как в наши с тобой лучшие времена. Приезжай, и мы с сыном встретим и обнимем тебя на пороге.
Сейчас еще не так опасно ехать – бои переместились куда-то на восток: кажется, в Каппадокию?
И потом – ты ведь теперь настоящая воительница, подобно Метаксии? Я действительно хотел бы полюбоваться твоим искусством. Вард мне рассказывал, как ты стреляешь.
Приезжай – и оставайся так надолго, как долго желаешь быть со своим сыном. Я никакой силы к тебе не применю.
Фома"
Феодора скомкала письмо и, бросив его в угол, заплакала, не обращая внимания на Феофано, которая была в этой же комнате.
- Я так и думала, что этим кончится!
Феофано, приблизившись, обняла ее за плечи и неверяще заглянула в глаза:
- Он так-таки отказывается вернуть сына?..
Феодора кивнула.
- Вот слизняк! – топнув ногой, в ярости воскликнула лакедемонянка. – Как он не понимает, что мальчик в опасности вместе с ним?..
Феодора развела руками.
- Я так и чувствовала… Фома теперь отыгрывается на мне за все прошлое.
Она тяжело вздохнула.
- Придется ехать.. Не наездишься так-то!
Феофано поджала губы.
- Наверное, придется… Но я ему это припомню! – снова в ярости воскликнула царица. – Он сейчас заманивает тебя ребенком, как трус и подлец, - потому что больше нечем!
- Вы все так делаете, и я от вас научилась, - заметила с грустной усмешкой Феодора. – И ведь Фома прав… по крайней мере, отчасти. Но теперь не об этом речь. О сыне надо думать.
Она положила руку на плечо своей царственной подруги.
- Если я уеду – ты сбережешь Анастасию?
- Конечно, - ответила Феофано.
Она немного подумала.
- А дочь ты с собой не возьмешь?
Феодора мотнула головой. Этого еще не хватало – ей бы одного ребенка вызволить!
Они обнялись.
Погладив подругу по голове и поцеловав, Феофано произнесла:
- Давай-ка посмотрим, что у меня есть против зачатия.
- А у тебя осталось еще что-нибудь? – безрадостно спросила Феодора. – А как же твой Марк? Я думала, ты давно уже все извела!
Феофано рассмеялась.
- Нет, не извела… Я счастливая женщина! Я слишком давно потеряла способность рожать; и мой Марк мне не муж и не может требовать! Мы оба этим счастливы, признаюсь тебе, - брак редко когда не убивает любовь!
Она посмотрела в глаза подруге долгим взглядом, положив горячие руки ей на плечи.
- Возвращайся домой, а лучше всего привези с собой сына.
Феодора улыбнулась.
- Как повезет!
Она пошла собираться в дорогу, и улыбка ее скоро истаяла: московитка предвидела, сколько еще предстоит боев.
* Притом именно в такой форме, как у Метаксии и Желани: благородная женщина, покровительствующая младшей. Плутарх сообщал, что лакедемоняне "придают такое большое значение любви, что девушки становятся эротическими партнерами женщин из благородных семей".
* Привет вам (лат.)
Мардония искали долго – и сын младшего Аммония знал, что поиски эти направляет не только отцовская воля. Ибрахим-паша был по-женски злопамятен, изощрен и мстителен: этим турки отличались еще более греков.
Московиты вместе с юным греческим аристократом, принятым на поруки, не видели близко публичных казней – Стамбул был слишком велик, и итальянских кварталов гнев победителей не опалял. Мехмед и его советники именно сейчас особенно нуждались в мире с папой – католическая церковь оставалась столь же жестоким и упорным врагом, разящим мечом христианства: так же, как мягкая греческая церковь была душою Христова учения. Но католики и их подопечные, конечно, слышали о расправах, одно описание которых трудно было вынести, - турки сажали бунтовщиков и преступников на кол, притом таким хитроумным способом, с поперечиной, что тело долго скользило вниз, и муки казнимого продлевались на несколько часов; варили живьем, сажали ослушников в выгребные ямы, где выдерживали сутками, заставляя нырять с головой…
Может быть, кто-то из горожан за эти месяцы пострадал и по вине Мардония – только потому, что тот не захотел стать турецким наложником: тогда как эта участь была далеко не худшей и весьма частой!
Но если бы ему опять пришлось решать свою судьбу, Мардоний поступил бы так же. Он повзрослел и понял, что взросление мужчины означает готовность к сознательному страданию во имя чего-то, что выше и больше него. Он тоже строил свою душу!
Поиски, однако, кончились; и кончились ничем. У градоначальника было слишком много забот; может быть, он наконец причислил Мардония к мертвым и махнул на мальчишку рукой.
За это время сын Валента едва ли не впервые в жизни почувствовал себя нужным и дорогим человеком; не желая быть обузой, он учился нескольким ремеслам, которые прежде презирал, следом за отцом считая женскими, и радовался, когда его хвалили за успехи. Впрочем, Мардоний сам рассказывал Микитке, что в Блистательной Порте все мужчины обучались какому-нибудь ремеслу, считая и самых знатных. Русский евнух удивился и похвалил такой турецкий обычай; и Мардоний тоже признал его полезность. С него быстро облетела избалованность, не затронувшая его чистой и глубокой души – одной из тех замечательных восточных душ, которые часто находят себе прибежище именно в тонких и неразвитых телах.
Мардоний почти сразу привязался к Микитке, полюбил его, как единственного человека, которому мог открыться, – и вначале даже слишком льнул к своему новому другу; но потом почувствовал, что московит не хочет такой близости. Мардоний догадался, что этому может быть даже не одна причина, известная им обоим, - а несколько причин. Может быть, сын Аммония узнал кое-что стороной, в обход Микитки… но спустя некоторое время перестал к нему ластиться, держась с дружелюбным достоинством сына благородных родителей. Но внутри у Мардония засела та же боль, что и у Микитки: оба сделались вынужденными одиночками.
Но, несмотря на это, они стали один для другого самыми близкими друзьями, которых могли иметь, – вдвоем они переговорили о многом, о чем молчали со всеми остальными; но им было хорошо даже молчать вместе целыми часами, занимаясь шитьем или вязанием. Мардоний, как и его старший товарищ, скоро почувствовал, что у него нет воинского призвания: и теперь ему не перед кем было этого стыдиться. Тавроскифы, которых сын Аммония зауважал еще больше, узнав ближе, уважали все честные занятия.
Микитка почти сразу был вынужден представить своего подопечного Евдокии Хрисанфовне – конечно, мать дозналась о госте очень скоро, от мужа ли, от его ли товарищей, было не так уж важно. Все они почитали жену своего старшего – здесь, на чужой земле, она была для русов не меньше княгини; а зоркостью своего сердца и мудростью суда заслуживала такого звания.
Мардоний ощутил влечение к этой русской женщине – и страх перед нею: такое же смущение ума, какое его брат ощущал перед лицом Феофано, даже еще больше. В Евдокии Хрисанфовне была какая-то основательность, правда неведомой Мардонию матери-земли, которой не имели даже лучшие гречанки, – основательность и правда, свойственная едва ли не больше всего русским женщинам!
И, конечно, Евдокия Хрисанфовна догадалась, что Мардоний непрост и сын далеко не простых родителей; и что за ним тянется долгий кровавый хвост, который мальчик очень хотел бы, но не мог оборвать.
Но она ничего лишнего не спросила – и даже вовсе ничего не спросила, удовольствовавшись тем, что Мардоний рассказал ей сам. А он едва ли не поведал больше, чем следовало, - отчего-то вдруг безрассудно захотев довериться ее власти и участию!
Оставшись вдвоем с Микиткой, Мардоний сказал ему - все еще помня теплый, но зоркий взгляд и теплую руку, гладившую его волосы:
- Я бы хотел, чтобы у меня была такая мать!
Микитка знал, что Мардоний очень рано осиротел, - что он почти забыл ту, что дала ему жизнь. И евнух сказал, понимая тоску друга:
- Евдокия Хрисанфовна нам всем мать…
Микитка печально улыбнулся, сознавая то особенное значение, которое его мать приобрела для всех русов здесь.
- И тебе теперь – тоже, - закончил он, положив руку Мардонию на плечо.
Валент Аммоний стал известным в городе вельможей и милостником султана; это было уже и вовсе не стыдно – наоборот, он вызывал зависть многих ромеев, не сумевших пробиться так высоко. Насмешка судьбы была в том, что у Валента кусок с султанского стола застревал в горле…
Мардоний, конечно, избегал показываться во Влахернах, но некоторые пронырливые слуги из итальянских домов крутились там и приносили московитам самые свежие новости.
Услышав об отбытии Валента в Каппадокию, Мардоний испугался – не за отца, а за Феофано. Он чувствовал сердце отца не хуже старших сестер.
- Валент сначала посидит в ваших горах, - сказал Микитка, когда младший друг поделился с ним своими опасениями. – Такие дела не вдруг делаются! Силу свою упрочит и султану как следует поклонится. Горы не Стамбул, в кулаке не сожмешь – там небось люди и посейчас кровью обливаются, турок нещадно бьют!
Микитка усмехнулся.
- Твой отец еще много крови прольет, прежде чем их уймет! Что ж, охота пуще неволи!
Русский евнух покачал головой.
- Сдается мне, брат Мардоний, это Валент так султана обманывает, да и самого себя заодно… будет сидеть там и править, точно он вольный!
Мардоний задумчиво кивнул.
- Наверное, ты прав… Если бы мой отец вызвал султана на бой, он бы убил его, - вдруг вздохнул мальчик. – Как жаль, что так нельзя!
Микитка покосился на приятеля.
- Ну, ты же не вызовешь на бой мою мать, а слушаешь ее, - заметил он. – Власть штука прехитрая, в каждом монастыре свой устав. Все от Бога.
Друзья долго молчали.
- Я никогда не видел Феофано своими глазами, - вдруг сказал Мардоний. – Хотел бы я на нее посмотреть!
Микитка насупился.
- Этого еще долго жди…
Он подумал и прибавил:
- И в сказки не больно-то верь. Что тебе в твоей тетке? Ну, храбрая, сильная… честь ей и хвала! А и все равно: такая же смертная плоть, как все мы. Что ни есть в ней доброго, все от Бога.
Мардоний слабо улыбнулся тонкими губами.
- Как хорошо ты говоришь… Я будто священника слушал, - сказал он. – А я ведь много лет уже в церкви не бывал.
Он склонил черную, как смоль, голову.
- Феофано, наверное, тоже давно не бывала. Там все уже не то. Не зря Бог попустил наши святые церкви порушить!
Микитка сурово взглянул на него – и вдруг толкнул в слабую грудь, так что Мардоний покачнулся и вскрикнул.
- Ты эту храмину сбереги, - сказал московит сурово. – Ее строить долго, а сгубить – плевое дело! Укрепляйся сейчас на годы вперед!
Он помолчал.
- И по-новому укрепляйся – старое время кончилось!
"Фома!
Если бы ты знал, как я устала от тебя… Сколько можно лгать ребенку? И какая правда лучше, и какая ложь?
Я не спрашиваю, почему ты не хочешь отдать мне Варда, - но подумай, сколько он уже понимает. Моего греха сын не видит, и никто из наших в здравом уме ему не скажет. Детей оберегают от куда худших зол, чем это, - неужели я должна напоминать тебе?
Подумай, муж мой, что ты подвергаешь Варда такой же опасности, как и себя! Ты не даешь ему учиться; а Метаксия говорит, и я в этом совершенно согласна с нею, что этих упущенных детских лет потом ничем не восполнить.
Я пишу и с горечью думаю о Лаконии, где такие союзы, как наш с Метаксией, были узаконены: как между мужами, так и между женами*; и Лакония порождала лучших воинов на свете. Дело не в том, каков любовный обычай, - вернее сказать, далеко не только в этом: нравственность ребенка складывается из всего, тебе ли этого не понимать! Вы, ромеи, примерили на себя столько нравственных образцов! И не может быть одного образца на все случаи.
Господи, и зачем я сейчас перед тобой распинаюсь… Ты ведь все равно не послушаешь. Неужели ты вынудишь меня отобрать сына силой? Я смогу, если захочу! Тебе мало той войны, которая нависла над всеми нами, - которая только ненадолго отодвинулась?
Я взываю к твоему разуму и сердцу, Фома, - пожалуйста, привези Варда назад; или это может очень плохо кончиться для нас всех.
Я тебя всегда любила. Не делайся мне врагом!
Желань Браздовна"
"Salve vobis*, сколько вас там ни есть, мои отважные спартанцы!
Я тоже всегда тебя любил, дорогая супруга. Если бы ты знала, как приятно наконец получить твое полное внимание! Сколько раз я говорил тебе, что нельзя пренебрегать святостью брака, - как и своим законным мужем!
Нет, я не отдам тебе сына сейчас.
Надеюсь, ты понимаешь, что дитя нельзя увезти силой? Ты нанесла Варду уже достаточно душевных ран, как и его отцу!
Будь покойна насчет его воспитания. Вард не скучает - и тело, и ум его в развитии. Я занимаюсь с ним гимнастикой, так же, как делала ты, - и малыш столь же охотно учится по-латыни, как учился у вас по-гречески; а если бы ты видела, как он слушает истории римских императоров, которые я читаю ему вечерами! Ты бы ни за что не захотела отобрать сына у меня.
Я вынудил тебя с моей сестрой по-настоящему познакомить Варда с отцом, чтобы вы перестали наконец кормить его завтраками и сказками. Может, я и не лучший из отцов, - но ведь и ты, надеюсь, не назовешь себя лучшей из матерей?
Как-то мы с тобой спорили, какая мера лжи допустима с нашим сыном; и я согласен, что ложь необходима. Но Вард должен чувствовать отцовскую любовь – и уверяю тебя, что он получает ее в избытке, и мы с ним прекрасно ладим.
Я знаю – ты спросишь, скучает ли он по матери и сестре? Конечно, скучает. Теперь я вижу, какой ты была матерью все то время, что не пускала меня к сыну: тебя он поминает через слово. И теперь настал мой черед лгать Варду о тебе, как ты лгала ему обо мне. Думаю, ты признаешь, что это справедливо.
Теперь я спрошу тебя со всею серьезностью: когда ты намеревалась рассказать сыну о своей связи с Метаксией? Не можешь же ты промолчать всю жизнь! А если ему расскажут об этом чужие люди?
Я пока молчу; но, как ты верно заметила, Феодора, Вард сознает все больше вокруг себя. Ты не забыла, что две недели назад ему исполнилось пять лет? Мы с ним отпраздновали его рожденье без тебя!
Больше года прошло с того дня, как пал Константинополь, - и совсем, совсем скоро наш Вард поймет, что это такое. Не понял бы и других ужасных вещей.
Нет, дорогая, я не угрожаю тебе – я только сокрушаюсь и тоскую. Если бы ты вернулась домой! Как у нас теперь хорошо! Нет больше Олимпа, и твоей статуи тоже нет, - но в остальном дом таков же, как в наши с тобой лучшие времена. Приезжай, и мы с сыном встретим и обнимем тебя на пороге.
Сейчас еще не так опасно ехать – бои переместились куда-то на восток: кажется, в Каппадокию?
И потом – ты ведь теперь настоящая воительница, подобно Метаксии? Я действительно хотел бы полюбоваться твоим искусством. Вард мне рассказывал, как ты стреляешь.
Приезжай – и оставайся так надолго, как долго желаешь быть со своим сыном. Я никакой силы к тебе не применю.
Фома"
Феодора скомкала письмо и, бросив его в угол, заплакала, не обращая внимания на Феофано, которая была в этой же комнате.
- Я так и думала, что этим кончится!
Феофано, приблизившись, обняла ее за плечи и неверяще заглянула в глаза:
- Он так-таки отказывается вернуть сына?..
Феодора кивнула.
- Вот слизняк! – топнув ногой, в ярости воскликнула лакедемонянка. – Как он не понимает, что мальчик в опасности вместе с ним?..
Феодора развела руками.
- Я так и чувствовала… Фома теперь отыгрывается на мне за все прошлое.
Она тяжело вздохнула.
- Придется ехать.. Не наездишься так-то!
Феофано поджала губы.
- Наверное, придется… Но я ему это припомню! – снова в ярости воскликнула царица. – Он сейчас заманивает тебя ребенком, как трус и подлец, - потому что больше нечем!
- Вы все так делаете, и я от вас научилась, - заметила с грустной усмешкой Феодора. – И ведь Фома прав… по крайней мере, отчасти. Но теперь не об этом речь. О сыне надо думать.
Она положила руку на плечо своей царственной подруги.
- Если я уеду – ты сбережешь Анастасию?
- Конечно, - ответила Феофано.
Она немного подумала.
- А дочь ты с собой не возьмешь?
Феодора мотнула головой. Этого еще не хватало – ей бы одного ребенка вызволить!
Они обнялись.
Погладив подругу по голове и поцеловав, Феофано произнесла:
- Давай-ка посмотрим, что у меня есть против зачатия.
- А у тебя осталось еще что-нибудь? – безрадостно спросила Феодора. – А как же твой Марк? Я думала, ты давно уже все извела!
Феофано рассмеялась.
- Нет, не извела… Я счастливая женщина! Я слишком давно потеряла способность рожать; и мой Марк мне не муж и не может требовать! Мы оба этим счастливы, признаюсь тебе, - брак редко когда не убивает любовь!
Она посмотрела в глаза подруге долгим взглядом, положив горячие руки ей на плечи.
- Возвращайся домой, а лучше всего привези с собой сына.
Феодора улыбнулась.
- Как повезет!
Она пошла собираться в дорогу, и улыбка ее скоро истаяла: московитка предвидела, сколько еще предстоит боев.
* Притом именно в такой форме, как у Метаксии и Желани: благородная женщина, покровительствующая младшей. Плутарх сообщал, что лакедемоняне "придают такое большое значение любви, что девушки становятся эротическими партнерами женщин из благородных семей".
* Привет вам (лат.)
Re: Ставрос
Глава 101
"Я залью кровью весь мир, лишь бы ты меня полюбил!"
(Фильм "Гладиатор". Коммод – своему отцу, императору Марку Аврелию, перед тем, как задушить его.)
Феодора вступила на землю, которую помнила разоренной, - она сошла с коня и направилась к дому плечом к плечу с верными охранителями: и все трое товарищей, далеко не робкого десятка, с замиранием сердца озирали залитые солнцем луга, тенистый сад и работников, любовно трудившихся на полях и весело переговаривавшихся среди яблонь и маслин. Гостям за каждым кустом, между ветвей каждого дерева чудились духи – ведь эта земля, живая и наделенная собственной страстной, страждущей душою, как все греческие земли, еще помнила тех многих, кто погиб здесь совсем недавно!
В стороне от дороги дети играли в мяч; и вдруг, увидев гостей, удивленно замерли. Мальчишка лет семи, с мячом в руках, смотрел на хозяйку как на диво.
- Это я, ваша госпожа! – сказала Феодора.
Она прикрыла глаза и невольно заслонилась от взгляда невинного ребенка рукой. Этот маленький грек, небось, и имени ее не помнит, не то что лица! У московитки сжалось сердце: она подумала, что скоро ее Вард достигнет таких же лет, как этот крестьянский мальчик. Повезет ли ему вырасти в таком же счастливом неведении?
Тут она увидела, что на лугу из двоих игроков остался только один ребенок, - а тот, кому она назвалась, убежал: предупредить хозяина. Нет, дети замечают и понимают куда больше, чем думают взрослые!
Феодора, с Леонидом и Теоклом, шагавшими за нею след в след, направилась вперед по тропинке между груш, на которых уже налились и зарумянились плоды, клонившие ветви к земле. Феодора нагнулась и, придержав ветку, сорвала одну мягкую грушу и вонзила в нее зубы: рот наполнила восхитительная свежая сладость… и вдруг она поняла, что никуда отсюда не уедет.
Царица долго будет ждать свою филэ – а может, Метаксия уже все поняла: конечно, поняла! На войне все средства хороши – и Фома Нотарас прибегнул к последнему средству, чтобы приструнить свою законную жену.
Феодора улыбнулась. Она шла и грызла спелую грушу из мужнина сада, а в голове ее созревали слова, которые она ему сейчас скажет: Феодора привыкла думать быстро и вести самые непростые разговоры.
Фома Нотарас встретил жену на пороге – он стоял улыбаясь, прищурив свои умные серые глаза. Патрикий обнимал за плечи Варда. Когда Феодора стала подниматься по ступеням портика, Фома отпустил мальчика: и Вард стрелой бросился к матери.
- Мама!
Феодора рассмеялась и, подхватив сына, закружила его, как когда-то Феофано поднимала на руки ее саму. Вард был уже тяжел, но успел испытать крепость материнских рук и с восторгом доверялся им...
Патрикий перестал улыбаться при виде такой встречи; но когда жена опустила мальчика на землю и шагнула к нему, улыбнулся опять. Фома обнял ее и погладил по спине – осторожно, словно испрашивая разрешения.
Феодора отстранилась и посмотрела ему в глаза – она опять… все еще была чужая, и теперь иначе, чем после бегства от Валента: тогда Феодора смотрела на мужа с настороженностью зверя… а сейчас с веселым вызовом охотника.
Но это была, конечно, только маска: защита женщины от мужчины. Фома приветливо кивнул, взяв жену под руку.
- Идем в дом, я прикажу приготовить тебе ванну и ужин.
- Хорошо, - сказала Феодора.
Она помедлила на самом пороге дома.
- Только, пожалуйста, прикажи накрыть нам стол отдельно от ребенка.
Фома улыбнулся шире, серые глаза заискрились.
- Разумеется.
И Феодора, словно впервые, ощутила, что ее тоже поддерживает крепкая рука; волосы Фома по-прежнему носил длинными, но его тело стало твердым, как когда-то. Нет, он, как и супруга, определенно не терял зря времени!
На столе появилось такое же замечательное изобилие, праздник греческого хлебороба, рыбаря, садовода, каким Фома с женой наслаждались в лучшие мирные дни: до падения Царьграда. И в этот раз, встречая блудную жену, патрикий расстарался для нее - Феодора ела с наслаждением, почти забыв, кто и зачем приготовил ей это угощение. Фома с таким же наслаждением смотрел на супругу.
Наконец, когда она остановилась, он подлил ей вина.
- Ты ведь хочешь еще… не стесняйся, - сказал муж.
- Конечно, хочу, но останавливаться надо раньше, чем насытишься, - сказала Феодора.
Теперь она нахмурилась и отвернулась от него.
- Слава спартанскому воспитанию, - рассмеялся Фома.
Он держался с таким веселым и лукавым радушием, словно их ничего не разделяло: но Феодора чувствовала, что делается у него внутри. Она отодвинулась прежде, чем муж смог прикоснуться к ней.
Феодора подняла ногу и закинула ее на колено другой: точно преграждая доступ к своему телу.
- Фома, - сурово сказала она. – Я знаю, о чем ты думаешь сейчас, - ты хочешь меня и надеешься, что, снова взяв меня на ложе, овладеешь моей душой и волей, как когда-то давно! Ведь я могу зачать от тебя, а женщина превыше всего ставит жизнь ребенка!
Она глубоко вздохнула.
- Но если мне придется отстаивать свободу, я не пожалею своей жизни… и жизни ребенка. Я жила с Валентом, который пытался делать со мной такое… и именно тогда, в горах и в беззаконии, я поняла, что нужно любить превыше всего. Можно сказать, что с Валентом и Метаксией я узнала Христа.
Фома задумчиво кивнул.
- Ты говоришь так потому, что я не тиран, а человек, который любит тебя, - заметил он. – Уверяю тебя, что власти настоящего тирана ты не вынесла бы. Ты знаешь, что турки очень любят усмирять женщин кнутом и плетью? Плетью легко забить насмерть, а кнут в руках мастера своего дела способен рассечь тело пополам.
От него не укрылось, как жена побледнела. Фома зловеще склонился к ней, продлевая впечатление.
- Я сам это видел, потому что мне на своем веку приходилось наблюдать пытки. И даже пытать самому! Тебе, к счастью, нет.
Патрикий помрачнел.
- То, что женщина способна вынести такое, - иллюзия, - сказал он. – Но мы, мужчины, должны сделать все, чтобы наши женщины продолжали гордо держать голову и говорить подобные речи…
Он откинул назад золотые волосы и усмехнулся.
- Горе нам, если все жены будут рассуждать подобно тебе! Однако ты получила такое право, и я давно это признал.
Фома помолчал.
- Я еще помню дни, когда ты была моей наложницей, - но не желал бы, чтобы это время вернулось. А теперешние рабыни будут смотреть на тебя и мечтать, какими они могли бы быть! Или могут стать однажды!
"Ты можешь подарить другим свою душу… а они принять твой дар, даже не зная о нем", - вновь прозвучали в голове Феодоры слова царицы. Она улыбнулась со слезами.
- Ты возмужал… повзрослел, мой дорогой Фома. Ты говоришь, как настоящий грек!
- Боюсь, Метаксия не согласилась бы с тобой. Но для сестры я согласен быть и римлянином, - усмехнулся патрикий. – Рад, если ты теперь ценишь меня выше.
Они долго смотрели друг другу в глаза. Потом Феодора кивнула и потупилась; она порозовела, и глаза мужа заблестели торжеством.
- Я пойду… приготовлюсь, - выразительно сказала московитка.
Она встала из-за стола; Фома спокойно кивнул, оставшись сидеть в своем курульном кресле*. Он проследил за тем, как жена скрылась… а потом помрачнел и тихо выругался.
Но через несколько мгновений улыбнулся и радостно вздохнул. Если бы Феодора могла видеть его сейчас, он напомнил бы ей самого желанного поклонника – Леонарда Флатанелоса.
Но это сходство длилось недолго, и скоро лицо патрикия опять обрело прежнее мрачно-скептическое выражение.
Когда они остались вдвоем и Фома наконец лег рядом с женой, а его рука заскользила вверх по ее бедру под сорочкой, Феодора вдруг перехватила его запястье. Впервые патрикий почувствовал на себе, что московитка упражнялась серьезно.
Фома так же серьезно и выжидательно посмотрел на нее.
- Завтра я покажу тебе, как стреляю, - сказала Феодора.
Патрикий кивнул и улыбнулся опять: глаза заблестели радостью, теперь их общей радостью, и за мужчину, и за женщину. Он мягко обнял ее и стал целовать, а его руки заново узнавали ее. Прежде, чем отдаться его страсти, Феодора успела увидеть перед собой Феофано… и рассмеялась: ей показалось, что далекая царица рассмеялась тоже, и патрикий вместе с женой словно бы услышал в своей супружеской спальне торжествующий смех лакедемонянки.
"Я вернусь домой, моя василисса".
"Моя возлюбленная августа!
Ты могла бы подумать – и я могла бы подумать, что все идет как прежде. Константинополь так сильно чувствовал, что дни его сочтены; а здесь, у нас в деревне, разлито сияющее спокойствие, достойное бессмертных, которым уже навеки нечего страшиться.
Или это мы с мужем завязали себе глаза и заткнули уши, как приговоренные у столбов, в которых целятся лучники.
А может, в этом спокойствии виновато мое состояние – я помню, что в прошлые разы, вынашивая детей, чувствовала такую же обманчивую блаженную бестревожность! Я снова непраздна, Метаксия!
Прошло всего две недели с тех пор, как я посылала тебе последнее письмо, - и тогда я была еще свободна: а теперь уже нет, поняв наверняка, что ношу дитя. Вернее сказать, это Фома так думает, что связал меня… но той свободы, что завоевали мы с тобой, у нас никто не отнимет.
Фома неподдельно, я знаю, восхищался моим искусством стрелка – и я продолжаю упражняться: его любимые старые яблони, которые он так холил без меня, теперь принесены в жертву моей воле и ратным забавам. Благо стрельба – не фехтование: даже беременная женщина может заниматься ею, не боясь повредить ребенку. Подобное может случиться, только она будет слишком уж неискусна или слаба, – но я давно миновала эту ступень.
Фома снова счастлив со мной и Вардом, и безумно счастлив мыслью о своем будущем отцовстве. Или это мне так кажется? Он будто опьянел… а в таком деле, как ничто другое, нужна твердость и трезвость. Фома очень изменился с тех пор, как мы расстались, - точно римский философ-стоик на отдыхе: он возмужал, как мне представляется, и порою своими словами напоминает мне Леонарда. Но Фома всегда умел говорить слова. Сумеет ли подкрепить их делом?..
Не знаю, радоваться ли тому, что мой Вард узнал и полюбил отца, - но это уже случилось, ничего не попишешь. Однако и сам Фома стал куда более заботливым отцом, чем был раньше, и часто угадывает нужды и желания сердца нашего сына прежде меня. Помнишь, Фома давно еще писал – и я тоже писала, что Вард здесь, у нас в имении, приохотился к рисованию? Муж всячески поощряет его в этом – и Вард удивительно похоже рисует вещи, которых никогда не видел. Ты знаешь, что наш мальчик особенно любит рисовать море и корабли? А ведь он был совсем мал и несмышлен, когда мы купались в море и видели в Пропонтиде наши греческие суда!
Фома жертвует ему листы лучшей бумаги, и Вард исчеркивает их углем от края до края – и мне всякий раз кажется, когда я гляжу на рисунок, что его художеству не хватает простора, будто его корабли стремятся вырваться из своих границ. Вот кто настоящий грек! Он будто критянин – кстати, скажи, верно ли, что Флатанелосы родом с Крита?
Я сейчас пишу и кутаюсь в шаль от озноба – не могу поверить, что уже осень: что я в имении уже третий месяц, и третий месяц не видела тебя… В деревне даже время течет иначе.
Я теперь не смогу вернуться, даже если бы пожелала, как ты сама понимаешь, - дорожные случайности, прежде пустячные, могут оказаться роковыми. Не говоря о настоящих опасностях. А Фома не вынесет, если я не выношу этого ребенка, - я знаю! Твой бедный брат так долго всеми данными ему свыше силами пытался разжечь наш потухший очаг - и наконец это ему словно бы удалось.
Береги мою дочь, дорогая госпожа, - благо Анастасия никогда не была привязана ко мне так, как сын, и не скучала по мне так же, как он! Она, как ты знаешь, более нелюдимая, чем брат, - сама в себе, что более свойственно девочкам, которым не нужно в жизни познавать большой мир и людей, а только сидеть дома, готовясь к служению мужу и семье...
Я ни за что бы не хотела, чтобы Анастасию заперли в гинекее или гареме! А у нее уже развиты женские наклонности к затворничеству и послушанию – но нет ничего легче, чем потворствовать таким наклонностям: и мы с тобой должны сделать так, чтобы моя дочь тоже возмечтала о свободе, когда вырастет. Она благородной греческой крови – а значит, вести людей к свободе ее обязанность, как и наша с тобой.
Фома очень хочет сына – и особенно хочет, чтобы сын походил на него. Ведь Вард на отца не похож; и чем дальше, тем меньше делается похож – мало кто из тех, кто увидел бы их вместе, понял бы их родство!
А я даже не знаю, чего и хотеть от нашего нового ребенка, чего просить у Господа, - но согласна с Фомой, что Варду нужен брат. Нет ничего хуже, чем мальчику расти одному – а потом, став взрослым, не иметь такой самой надежной опоры!
Мне сейчас жаль Валента, и чем дальше, тем больше – он лишил себя всего, что истинно ценно, и что было высшею ценностью для всякого грека: он мстил за одного брата – и лишился другого, он жаждал любимой жены и сына – и в своей гордыне потерял обоих! А может, это мойры так распорядились им. Мусульмане верят, что судьба каждого человека предначертана Аллахом еще до рождения, – наверное, это так.
Но мусульмане никогда не были склонны к богоборчеству, и потому у них не рождается таких мужчин, как Валент… Захотел бы он похитить меня теперь, узнав, что я опять ношу ребенка Фомы?
Конечно, захотел бы; но я его сейчас не боюсь. Ему все еще не до женщин: я чувствую, что мой второй муж продолжает воевать на востоке, может быть, втайне надеясь найти смерть в бою. Но Валент долго не погибнет – слишком прочно сделан; и мы еще посмотрим друг другу в глаза.
Непременно напиши мне о Дионисии, Дарии и Льве, когда разузнаешь что-нибудь новое. Я чувствую, что Аммонии, наши удивительные друзья и родичи, живут совсем непохоже на нас, - я давно поняла, что Византия состоит из разных маленьких миров, самих в себе, наследников разных культур духа и ума*. У вашей империи давно уже не было объединяющего начала – такого, как у империи османов. Этим они и победили ромеев. Дай же боже появиться такому началу у наследников Византии – и дай боже их бесчисленным мирам слиться в один!
Кстати сказать – я совсем забыла, что на днях просватала мою рыжую Аспазию! Представь себе: я ничего не чуяла, пока горничная не пришла ко мне вместе с моим охранителем Теренцием, этим римским солдатом, который совсем на нее не похож; кто бы мог подумать, что они сойдутся! Хотя Теренций, наверное, попросту разглядел в ней хорошую жену – хорошую потому, что она послушная. А большего мужчине часто и не нужно. У них сговор наверняка был совсем короткий – Теренций позвал замуж, а моя девушка согласилась.
Я их благословила, и скоро они обвенчаются: оба останутся у нас с Фомой, потому что в деревне у них никого нет – слава богу, что и не было, когда деревни сожгли! Думаю, когда мне придет срок родить, моих забот будет ждать не один младенец.
Бедняжка Аспазия может позволить себе быть слабой и покладистой, хорошей женой, - потому что у нее строптивая и упорная госпожа… Как сказал Фома, рабыни, глядя на меня и тебя, видят свой образец: мечту, может быть, достижимую только в какой-то другой жизни.
Пока же прощай. Мы каждый раз прощаемся с тобою будто навек - только так и сладка любовь.
Радуйся.
Желань"
* Кресло без спинки и с X-образными ножками, сделанное, как правило, из бронзы и слоновой кости. В Древнем Риме могло принадлежать только высшим сановникам - магистратам (отсюда "курульный магистрат", лат. magistratus curulis).
* Слово "культура" в данном случае – не анахронизм: его употребляли еще римляне в значении "возделывание, совершенствование" (природы и человеческой натуры).
"Я залью кровью весь мир, лишь бы ты меня полюбил!"
(Фильм "Гладиатор". Коммод – своему отцу, императору Марку Аврелию, перед тем, как задушить его.)
Феодора вступила на землю, которую помнила разоренной, - она сошла с коня и направилась к дому плечом к плечу с верными охранителями: и все трое товарищей, далеко не робкого десятка, с замиранием сердца озирали залитые солнцем луга, тенистый сад и работников, любовно трудившихся на полях и весело переговаривавшихся среди яблонь и маслин. Гостям за каждым кустом, между ветвей каждого дерева чудились духи – ведь эта земля, живая и наделенная собственной страстной, страждущей душою, как все греческие земли, еще помнила тех многих, кто погиб здесь совсем недавно!
В стороне от дороги дети играли в мяч; и вдруг, увидев гостей, удивленно замерли. Мальчишка лет семи, с мячом в руках, смотрел на хозяйку как на диво.
- Это я, ваша госпожа! – сказала Феодора.
Она прикрыла глаза и невольно заслонилась от взгляда невинного ребенка рукой. Этот маленький грек, небось, и имени ее не помнит, не то что лица! У московитки сжалось сердце: она подумала, что скоро ее Вард достигнет таких же лет, как этот крестьянский мальчик. Повезет ли ему вырасти в таком же счастливом неведении?
Тут она увидела, что на лугу из двоих игроков остался только один ребенок, - а тот, кому она назвалась, убежал: предупредить хозяина. Нет, дети замечают и понимают куда больше, чем думают взрослые!
Феодора, с Леонидом и Теоклом, шагавшими за нею след в след, направилась вперед по тропинке между груш, на которых уже налились и зарумянились плоды, клонившие ветви к земле. Феодора нагнулась и, придержав ветку, сорвала одну мягкую грушу и вонзила в нее зубы: рот наполнила восхитительная свежая сладость… и вдруг она поняла, что никуда отсюда не уедет.
Царица долго будет ждать свою филэ – а может, Метаксия уже все поняла: конечно, поняла! На войне все средства хороши – и Фома Нотарас прибегнул к последнему средству, чтобы приструнить свою законную жену.
Феодора улыбнулась. Она шла и грызла спелую грушу из мужнина сада, а в голове ее созревали слова, которые она ему сейчас скажет: Феодора привыкла думать быстро и вести самые непростые разговоры.
Фома Нотарас встретил жену на пороге – он стоял улыбаясь, прищурив свои умные серые глаза. Патрикий обнимал за плечи Варда. Когда Феодора стала подниматься по ступеням портика, Фома отпустил мальчика: и Вард стрелой бросился к матери.
- Мама!
Феодора рассмеялась и, подхватив сына, закружила его, как когда-то Феофано поднимала на руки ее саму. Вард был уже тяжел, но успел испытать крепость материнских рук и с восторгом доверялся им...
Патрикий перестал улыбаться при виде такой встречи; но когда жена опустила мальчика на землю и шагнула к нему, улыбнулся опять. Фома обнял ее и погладил по спине – осторожно, словно испрашивая разрешения.
Феодора отстранилась и посмотрела ему в глаза – она опять… все еще была чужая, и теперь иначе, чем после бегства от Валента: тогда Феодора смотрела на мужа с настороженностью зверя… а сейчас с веселым вызовом охотника.
Но это была, конечно, только маска: защита женщины от мужчины. Фома приветливо кивнул, взяв жену под руку.
- Идем в дом, я прикажу приготовить тебе ванну и ужин.
- Хорошо, - сказала Феодора.
Она помедлила на самом пороге дома.
- Только, пожалуйста, прикажи накрыть нам стол отдельно от ребенка.
Фома улыбнулся шире, серые глаза заискрились.
- Разумеется.
И Феодора, словно впервые, ощутила, что ее тоже поддерживает крепкая рука; волосы Фома по-прежнему носил длинными, но его тело стало твердым, как когда-то. Нет, он, как и супруга, определенно не терял зря времени!
На столе появилось такое же замечательное изобилие, праздник греческого хлебороба, рыбаря, садовода, каким Фома с женой наслаждались в лучшие мирные дни: до падения Царьграда. И в этот раз, встречая блудную жену, патрикий расстарался для нее - Феодора ела с наслаждением, почти забыв, кто и зачем приготовил ей это угощение. Фома с таким же наслаждением смотрел на супругу.
Наконец, когда она остановилась, он подлил ей вина.
- Ты ведь хочешь еще… не стесняйся, - сказал муж.
- Конечно, хочу, но останавливаться надо раньше, чем насытишься, - сказала Феодора.
Теперь она нахмурилась и отвернулась от него.
- Слава спартанскому воспитанию, - рассмеялся Фома.
Он держался с таким веселым и лукавым радушием, словно их ничего не разделяло: но Феодора чувствовала, что делается у него внутри. Она отодвинулась прежде, чем муж смог прикоснуться к ней.
Феодора подняла ногу и закинула ее на колено другой: точно преграждая доступ к своему телу.
- Фома, - сурово сказала она. – Я знаю, о чем ты думаешь сейчас, - ты хочешь меня и надеешься, что, снова взяв меня на ложе, овладеешь моей душой и волей, как когда-то давно! Ведь я могу зачать от тебя, а женщина превыше всего ставит жизнь ребенка!
Она глубоко вздохнула.
- Но если мне придется отстаивать свободу, я не пожалею своей жизни… и жизни ребенка. Я жила с Валентом, который пытался делать со мной такое… и именно тогда, в горах и в беззаконии, я поняла, что нужно любить превыше всего. Можно сказать, что с Валентом и Метаксией я узнала Христа.
Фома задумчиво кивнул.
- Ты говоришь так потому, что я не тиран, а человек, который любит тебя, - заметил он. – Уверяю тебя, что власти настоящего тирана ты не вынесла бы. Ты знаешь, что турки очень любят усмирять женщин кнутом и плетью? Плетью легко забить насмерть, а кнут в руках мастера своего дела способен рассечь тело пополам.
От него не укрылось, как жена побледнела. Фома зловеще склонился к ней, продлевая впечатление.
- Я сам это видел, потому что мне на своем веку приходилось наблюдать пытки. И даже пытать самому! Тебе, к счастью, нет.
Патрикий помрачнел.
- То, что женщина способна вынести такое, - иллюзия, - сказал он. – Но мы, мужчины, должны сделать все, чтобы наши женщины продолжали гордо держать голову и говорить подобные речи…
Он откинул назад золотые волосы и усмехнулся.
- Горе нам, если все жены будут рассуждать подобно тебе! Однако ты получила такое право, и я давно это признал.
Фома помолчал.
- Я еще помню дни, когда ты была моей наложницей, - но не желал бы, чтобы это время вернулось. А теперешние рабыни будут смотреть на тебя и мечтать, какими они могли бы быть! Или могут стать однажды!
"Ты можешь подарить другим свою душу… а они принять твой дар, даже не зная о нем", - вновь прозвучали в голове Феодоры слова царицы. Она улыбнулась со слезами.
- Ты возмужал… повзрослел, мой дорогой Фома. Ты говоришь, как настоящий грек!
- Боюсь, Метаксия не согласилась бы с тобой. Но для сестры я согласен быть и римлянином, - усмехнулся патрикий. – Рад, если ты теперь ценишь меня выше.
Они долго смотрели друг другу в глаза. Потом Феодора кивнула и потупилась; она порозовела, и глаза мужа заблестели торжеством.
- Я пойду… приготовлюсь, - выразительно сказала московитка.
Она встала из-за стола; Фома спокойно кивнул, оставшись сидеть в своем курульном кресле*. Он проследил за тем, как жена скрылась… а потом помрачнел и тихо выругался.
Но через несколько мгновений улыбнулся и радостно вздохнул. Если бы Феодора могла видеть его сейчас, он напомнил бы ей самого желанного поклонника – Леонарда Флатанелоса.
Но это сходство длилось недолго, и скоро лицо патрикия опять обрело прежнее мрачно-скептическое выражение.
Когда они остались вдвоем и Фома наконец лег рядом с женой, а его рука заскользила вверх по ее бедру под сорочкой, Феодора вдруг перехватила его запястье. Впервые патрикий почувствовал на себе, что московитка упражнялась серьезно.
Фома так же серьезно и выжидательно посмотрел на нее.
- Завтра я покажу тебе, как стреляю, - сказала Феодора.
Патрикий кивнул и улыбнулся опять: глаза заблестели радостью, теперь их общей радостью, и за мужчину, и за женщину. Он мягко обнял ее и стал целовать, а его руки заново узнавали ее. Прежде, чем отдаться его страсти, Феодора успела увидеть перед собой Феофано… и рассмеялась: ей показалось, что далекая царица рассмеялась тоже, и патрикий вместе с женой словно бы услышал в своей супружеской спальне торжествующий смех лакедемонянки.
"Я вернусь домой, моя василисса".
"Моя возлюбленная августа!
Ты могла бы подумать – и я могла бы подумать, что все идет как прежде. Константинополь так сильно чувствовал, что дни его сочтены; а здесь, у нас в деревне, разлито сияющее спокойствие, достойное бессмертных, которым уже навеки нечего страшиться.
Или это мы с мужем завязали себе глаза и заткнули уши, как приговоренные у столбов, в которых целятся лучники.
А может, в этом спокойствии виновато мое состояние – я помню, что в прошлые разы, вынашивая детей, чувствовала такую же обманчивую блаженную бестревожность! Я снова непраздна, Метаксия!
Прошло всего две недели с тех пор, как я посылала тебе последнее письмо, - и тогда я была еще свободна: а теперь уже нет, поняв наверняка, что ношу дитя. Вернее сказать, это Фома так думает, что связал меня… но той свободы, что завоевали мы с тобой, у нас никто не отнимет.
Фома неподдельно, я знаю, восхищался моим искусством стрелка – и я продолжаю упражняться: его любимые старые яблони, которые он так холил без меня, теперь принесены в жертву моей воле и ратным забавам. Благо стрельба – не фехтование: даже беременная женщина может заниматься ею, не боясь повредить ребенку. Подобное может случиться, только она будет слишком уж неискусна или слаба, – но я давно миновала эту ступень.
Фома снова счастлив со мной и Вардом, и безумно счастлив мыслью о своем будущем отцовстве. Или это мне так кажется? Он будто опьянел… а в таком деле, как ничто другое, нужна твердость и трезвость. Фома очень изменился с тех пор, как мы расстались, - точно римский философ-стоик на отдыхе: он возмужал, как мне представляется, и порою своими словами напоминает мне Леонарда. Но Фома всегда умел говорить слова. Сумеет ли подкрепить их делом?..
Не знаю, радоваться ли тому, что мой Вард узнал и полюбил отца, - но это уже случилось, ничего не попишешь. Однако и сам Фома стал куда более заботливым отцом, чем был раньше, и часто угадывает нужды и желания сердца нашего сына прежде меня. Помнишь, Фома давно еще писал – и я тоже писала, что Вард здесь, у нас в имении, приохотился к рисованию? Муж всячески поощряет его в этом – и Вард удивительно похоже рисует вещи, которых никогда не видел. Ты знаешь, что наш мальчик особенно любит рисовать море и корабли? А ведь он был совсем мал и несмышлен, когда мы купались в море и видели в Пропонтиде наши греческие суда!
Фома жертвует ему листы лучшей бумаги, и Вард исчеркивает их углем от края до края – и мне всякий раз кажется, когда я гляжу на рисунок, что его художеству не хватает простора, будто его корабли стремятся вырваться из своих границ. Вот кто настоящий грек! Он будто критянин – кстати, скажи, верно ли, что Флатанелосы родом с Крита?
Я сейчас пишу и кутаюсь в шаль от озноба – не могу поверить, что уже осень: что я в имении уже третий месяц, и третий месяц не видела тебя… В деревне даже время течет иначе.
Я теперь не смогу вернуться, даже если бы пожелала, как ты сама понимаешь, - дорожные случайности, прежде пустячные, могут оказаться роковыми. Не говоря о настоящих опасностях. А Фома не вынесет, если я не выношу этого ребенка, - я знаю! Твой бедный брат так долго всеми данными ему свыше силами пытался разжечь наш потухший очаг - и наконец это ему словно бы удалось.
Береги мою дочь, дорогая госпожа, - благо Анастасия никогда не была привязана ко мне так, как сын, и не скучала по мне так же, как он! Она, как ты знаешь, более нелюдимая, чем брат, - сама в себе, что более свойственно девочкам, которым не нужно в жизни познавать большой мир и людей, а только сидеть дома, готовясь к служению мужу и семье...
Я ни за что бы не хотела, чтобы Анастасию заперли в гинекее или гареме! А у нее уже развиты женские наклонности к затворничеству и послушанию – но нет ничего легче, чем потворствовать таким наклонностям: и мы с тобой должны сделать так, чтобы моя дочь тоже возмечтала о свободе, когда вырастет. Она благородной греческой крови – а значит, вести людей к свободе ее обязанность, как и наша с тобой.
Фома очень хочет сына – и особенно хочет, чтобы сын походил на него. Ведь Вард на отца не похож; и чем дальше, тем меньше делается похож – мало кто из тех, кто увидел бы их вместе, понял бы их родство!
А я даже не знаю, чего и хотеть от нашего нового ребенка, чего просить у Господа, - но согласна с Фомой, что Варду нужен брат. Нет ничего хуже, чем мальчику расти одному – а потом, став взрослым, не иметь такой самой надежной опоры!
Мне сейчас жаль Валента, и чем дальше, тем больше – он лишил себя всего, что истинно ценно, и что было высшею ценностью для всякого грека: он мстил за одного брата – и лишился другого, он жаждал любимой жены и сына – и в своей гордыне потерял обоих! А может, это мойры так распорядились им. Мусульмане верят, что судьба каждого человека предначертана Аллахом еще до рождения, – наверное, это так.
Но мусульмане никогда не были склонны к богоборчеству, и потому у них не рождается таких мужчин, как Валент… Захотел бы он похитить меня теперь, узнав, что я опять ношу ребенка Фомы?
Конечно, захотел бы; но я его сейчас не боюсь. Ему все еще не до женщин: я чувствую, что мой второй муж продолжает воевать на востоке, может быть, втайне надеясь найти смерть в бою. Но Валент долго не погибнет – слишком прочно сделан; и мы еще посмотрим друг другу в глаза.
Непременно напиши мне о Дионисии, Дарии и Льве, когда разузнаешь что-нибудь новое. Я чувствую, что Аммонии, наши удивительные друзья и родичи, живут совсем непохоже на нас, - я давно поняла, что Византия состоит из разных маленьких миров, самих в себе, наследников разных культур духа и ума*. У вашей империи давно уже не было объединяющего начала – такого, как у империи османов. Этим они и победили ромеев. Дай же боже появиться такому началу у наследников Византии – и дай боже их бесчисленным мирам слиться в один!
Кстати сказать – я совсем забыла, что на днях просватала мою рыжую Аспазию! Представь себе: я ничего не чуяла, пока горничная не пришла ко мне вместе с моим охранителем Теренцием, этим римским солдатом, который совсем на нее не похож; кто бы мог подумать, что они сойдутся! Хотя Теренций, наверное, попросту разглядел в ней хорошую жену – хорошую потому, что она послушная. А большего мужчине часто и не нужно. У них сговор наверняка был совсем короткий – Теренций позвал замуж, а моя девушка согласилась.
Я их благословила, и скоро они обвенчаются: оба останутся у нас с Фомой, потому что в деревне у них никого нет – слава богу, что и не было, когда деревни сожгли! Думаю, когда мне придет срок родить, моих забот будет ждать не один младенец.
Бедняжка Аспазия может позволить себе быть слабой и покладистой, хорошей женой, - потому что у нее строптивая и упорная госпожа… Как сказал Фома, рабыни, глядя на меня и тебя, видят свой образец: мечту, может быть, достижимую только в какой-то другой жизни.
Пока же прощай. Мы каждый раз прощаемся с тобою будто навек - только так и сладка любовь.
Радуйся.
Желань"
* Кресло без спинки и с X-образными ножками, сделанное, как правило, из бронзы и слоновой кости. В Древнем Риме могло принадлежать только высшим сановникам - магистратам (отсюда "курульный магистрат", лат. magistratus curulis).
* Слово "культура" в данном случае – не анахронизм: его употребляли еще римляне в значении "возделывание, совершенствование" (природы и человеческой натуры).
Re: Ставрос
Глава 102
Феодора родила сына, как надеялась и она, и муж, - точно ее с некоторых пор кто-то благословил на рождение сыновей, во славу Римской империи: слишком поздно!
Когда она мучилась родами, в имении уже была Феофано с Анастасией, приехавшая заблаговременно. И, как всегда бывало, близость подруги вдохнула в московитку силы: она вытолкнула ребенка меньше, чем за полчаса.
Хотя теперь думала, что так справилась бы и сама…
- Не повредила бы ты ему – голову! – говорил Фома, которого только присутствие Феофано удержало от того, чтобы напиться: так он волновался. – У тебя внутри наросли такие же мышцы, как снаружи!
- Еще бы ты на это жаловался, - сказала Феофано, посмеиваясь: точно это она родила сейчас сына, а не подруга. – Поблагодари свою жену и почти ее подарком!
- Я не знаю, что ей подарить, - звезду с неба? – пробормотал Фома, глядя на жену блаженными глазами.
- Ах, да замолчите вы оба, - отозвалась со своей постели роженица. – Не видите – ребенок заснул!
Тотчас же все притихло. Малыш Александр, - как родители решили назвать его сразу в честь древнего македонского полубога и святого русского князя-освободителя, - спал гораздо более чутко, чем его братья Вард и Лев. Это не обязательно означало хрупкость здоровья; но Александр, несомненно, удался в отца намного более, чем другие дети Феодоры.
Фома взял мальчика у жены и коснулся золотистого пушка на его голове, погладил белую щечку.
- Это настоящий мой наследник, - прошептал патрикий в упоении.
А Феодора вдруг вспомнила о ребенке Фомы и Метаксии, которому не суждено было родиться, хотя эти двое были только двоюродные брат и сестра: и подумала, что блистательное имя, которое дали ее младшему сыну, для него что золотая цепь, подаренная не по заслугам. Имя Александра не поможет мальчику, а только утянет его на дно: как тех, кто уже утоп в Пропонтиде… Ее новый сын не станет опорой для Варда и защитником людей – а будет тянуть из всех силы, как делал Фома: одним на роду написано брать, как другим давать!
Но ничего не поделаешь.
Однако этот ребенок осчастливил Фому и наполнил его жизнь смыслом – уже этим он подарок. Фома Нотарас мог бы очень повредить им всем в самом скором будущем, рассчитываясь за свою поруганную гордость и отвергнутую любовь!
Когда Фома вышел из спальни, давая покой жене и сыну, - а может, чтобы наконец напиться на радостях без чужих глаз, - Феофано присела рядом со своей филэ.
- Хочешь ли ты, чтобы я увезла Анастасию в город, - или оставить ее тебе? Не думаю, что она будет обузой, - это здоровая и воспитанная девочка…
Феодора ощутила укол вины, как всякий раз, когда ей напоминали, что сын ей всегда был милее дочери. Но Феофано смотрела на нее с полным пониманием – с такою же любовью и твердостью, что и всегда! Феодора поцеловала руку царицы и прижала ее к своей щеке.
- Оставляй, - прошептала она. – Мы теперь полная семья… к добру или к худу.
Феофано склонилась над нею и поцеловала в лоб.
- Сейчас спи… мы поговорим позже.
Феодора знала, что им нужно поговорить, - но знала, глядя на Феофано, что это подождет: как всегда, она доверилась своей патронессе. Московитка закрыла глаза и через мгновение уже спала.
Феофано посмотрела на спящих мать и сына – потом перекрестила их.
- А и все равно… - пробормотала лакедемонянка. Махнула тою же рукой, которой крестила подругу, и вышла из комнаты, прикрыв за собой дверь.
Когда Феодора отдохнула, поела и села в постели кормить ребенка, Феофано опять пришла к ней: одна, без Фомы. Дождавшись, когда младенец наелся и снова уснул, лакедемонянка заговорила.
- Я привезла вам с братом новости… никакой вестник не успел бы раньше меня, а так я послала бы к вам еще прежде того…
Феодора встревожилась, приподнялась.
- Что-то серьезное?
- Пожалуй… хотя мелочей в политике не бывает, - ответила Феофано. – Димитрий Палеолог начал переговоры с Мехмедом – зверь опять заурчал, предвкушая добычу… Султан проголодался!
Феодора схватилась за грудь, ощущая, как пресеклось дыхание. Пришел час! Конечно, Константин защищал свой город до смерти, - но ведь то был Константин! А если бы на месте василевса был его брат Иоанн, которому Феофано все-таки помогла отправиться на тот свет, - или Димитрий после смерти Иоанна успел бы сесть в Царьграде раньше Константина?
Не согласился бы он сдать Город так же, как теперь торгуется за Мистру?..
- Димитрий сдает ему Мистру? – прошептала московитка. Ребенок рядом захныкал; Феофано взглянула на него, и Александр замолчал.
- Нет еще… но это будет скоро, - сказала лакедемонянка. – Видишь ли, героями люди становятся тогда, когда другого выхода нет! На Константина смотрел весь мир – и слава его равнялась славе всех греков! А о Димитрии, даже если он обретет худую славу, поговорят и забудут. Он уже сейчас тихо перебрался на остров Энос, который султан оставил в его власти, - а когда и это отберут, скорее всего, деспот и вовсе уедет в Европу или уйдет в монастырь…
- И все, - пробормотала Феодора.
- И все, - подтвердила царственная подруга.
Вот так обыкновенно – умер целый христианский мир!
- А нам что тогда делать? – спросила Феодора.
Гречанка сложила руки на груди.
- Это я и приехала обсудить, - сказала она.
Взглянула на закрытую дверь.
- Пойду отыщу братца – если он еще способен говорить…
Феодора нахмурилась: ее вдруг оскорбило такое замечание, хотя, живя врозь с мужем, она сама порою смеялась над ним!
Но Феофано привела Фому довольно быстро, хотя и не сразу: патрикий был совершенно трезв, только очень возбужден. Должно быть, они уже успели поговорить за дверью.
- Ты наконец признала, что я в чем-то прав! – громко воскликнул хозяин дома, обращаясь к сестре; видимо, продолжая разговор, начатый в коридоре. Казалось, он совершенно забыл даже про своего долгожданного сына.
- Тихо!.. Я никогда не говорила, что ты во всем неправ, - тут же понизив голос, отвечала Феофано. – Я говорила тебе только, что следует поступать сообразно с нашей честью и положением…
Феофано взглянула на подругу.
- Может быть, мы поговорим с тобой потом? Ты же видишь, Фома сейчас разбудит ребенка! Да и тебе самой нельзя утомляться!
- Нет, я желаю хотя бы слушать вас… если не смогу участвовать, - возразила Феодора. Она, как когда-то давно, вдруг ощутила себя варваркой на заседании сената. – Пусть Александра возьмет Магдалина, а мы закроемся здесь и побеседуем…
- Хорошо, - согласилась царица после небольшого раздумья.
Сияющая итальянка - для нее, простой души, все дети были благословением Божьим! – унесла мальчика из комнаты; и двое благородных византийцев остались наедине со своей бывшей рабыней.
Фома сел рядом с женой на постель, взяв ее за руку одной рукой, а другой приобняв за плечи: словно затем, чтобы защитить Феодору от власти сестры, что он пытался делать все эти годы – безуспешно!
Феофано, встав посреди комнаты и поставив одну ногу на скамеечку, как оратор на форуме, взяла слово.
- Феодора, Дионисий прислал тебе привет и поздравления… и еще одну старинную фамильную драгоценность, от своего лица: твоя подвеска остается подарком Валента.
- Какую драгоценность? – изумилась Феодора. Она даже забыла удивиться тому, что Феофано начала совсем не с того, с чего следовало.
- Пояс, позолоченная бронза с бирюзой и жемчугами, - очень прочный и красивый, хотя камни кое-где выпали… можно сказать, что и мужской, и женский сразу: к нему можно крепить кинжал, - ответила царица. - Есть и ножны, из цельного голубого халцедона: как раз к твоему кинжалу, - объяснила Феофано, улыбаясь и показывая на своей сильной стройной фигуре.
- Но тебе пояс пока тесноват… немного погодя примеришь.
Феодора улыбнулась такой персидской многозначности.
- А как там мой Лев? Он не вспоминает меня? – с неожиданной ревностью спросила московитка.
Феофано качнула головой.
- С ребенком все прекрасно, - утешающе сказала она. – Будь это не так, я сообщила бы первым делом…
Гречанка взялась за лоб.
- Дионисий просватал Дарию, - прибавила она без всякой радости: только озабоченно. – У него родились еще внук и внучка от старших дочерей – теперь у Дионисия трое внуков…
- А у Валента, наверное, поспело уже двое турецких внуков: наверное, еще больше турецких детей! – фыркнула московитка.
Феофано взглянула на нее без улыбки.
- Весьма возможно.
Она помолчала и прибавила:
- Мардоний сбежал от Валента и его турецких хозяев, оказывается, - еще много месяцев назад: а мы ничего не знали! Его теперь считают мертвым…
Феодора закусила губу.
- Господи…
Феофано посмотрела на брата.
- Но мальчик может быть жив. И если он жив, то искать его следует в Константинополе. Только там он мог спрятаться… и выжить. Слабым детям жизненно нужны города!
Фома поджал губы.
- Ты сейчас хотела сказать, Метаксия, что без этого аммониевского мальчишки мы никуда не уедем!
Феофано улыбнулась с жалостливым пониманием.
- Да, брат, именно так. Если Мардоний жив, мы не можем его бросить: тем более, если он сбежал! Это очень храбрый поступок!
Патрикий вздохнул и прикрыл глаза ладонью. Он больше не возражал: скорее смирялся - перед фантазиями женщины, которая не видит настоящего положения дел.
- Так ты все же признала, что нам следует в конце концов бежать, - сказал он с горькой иронией: покосился на сестру и тут же опять отвернулся. – И куда, моя отважная спартанка? Твои достославные предки не рассчитывали, что будут делать, если останутся живы, - и в конце концов их обошли те, кто не столь храбр, но умеет рассчитывать: потому что ум изощряется только так! Это закон истории, сестра, – ловкие всегда побеждают… по крайней мере, чем далее, тем более, и будущее принадлежит именно им!
Патрикий улыбнулся: улыбка едва тронула уголки рта.
- Хотел бы я знать, о чем ты разговариваешь со своим Марком, когда вы не заняты любовью или войной! Твой постоянный, как солнце, обожатель способен связать хотя бы два слова?
Феофано яростно хлопнула ладонью по колену, глаза ее вспыхнули: а Фома рассмеялся, поняв, что задел больное место.
- Я не желаю говорить с тобой о Марке! Тебе не понять, - уничижительно прибавила царица.
Она взглянула на подругу.
- Вернемся к тому, что мы обсуждали.
Феофано хотела продолжить, но не смогла; неожиданно замялась под взглядом брата, прикрыв ладонями пылающие щеки. Упоминание о Марке растравило слишком многое в ее душе, и лакедемонянка вдруг словно сдала позиции.
- Может быть, ты предложишь, куда нам отступить, Фома?
Патрикий насмешливо поклонился.
- Охотно, моя госпожа. Мы можем бежать в Италию, куда бежали уже многие не столь героические наши соотечественники. И там, по крайней мере, еще остались места, где можно дышать и гулять! Хотя Рим загажен до крайности, еще больше Константинополя, - Фома усмехнулся. – Но все же не так, как Париж или Мадрид! Рим строили не дикари!
Феофано сдвинула брови и прикусила яркие губы. Но она не бранилась и не смеялась над такой мыслью.
- Ты хорошо сказал, - произнесла царица. – Но уплыть в Италию трудно… куда труднее, чем два года назад!
- Что же ты медлила до сих пор? – рассмеялся брат. – Ты ведь, помнится мне, уже тогда не воевала! Тебе хотелось покрасоваться перед умирающими, новая царица амазонок?
Феофано чуть не влепила ему пощечину за такие слова; чудом удержалась. Она вся раскраснелась, и Феодора поняла, что слова недостойного брата опять обернулись правдой: в самом глубинном их смысле!
Как же все-таки этот человек умен!
- Что ж, порешим на Италии, - заключила лакедемонянка.
Фома склонил голову. Несмотря ни на что, последнее слово в их собраниях всегда оставалось за нею.
- Будем обрывать связи… и налаживать новые. Я ведь знаю, что самое главное – нацелить мысль, - улыбнулась Феофано обоим родственникам; потом устремила все внимание на Феодору.
- А сейчас довольно об этом! Тебе нужно отдохнуть, любовь моя.
Феодора улыбнулась, ощущая и неловкость, и счастье: как всегда, когда Феофано называла ее таким нежным именем в присутствии мужа. Патрикий тоже мягко улыбнулся жене.
- Отдыхай и ни о чем не думай сейчас. Я велю принести Александра, но Магдалина присмотрит за ним.
Феодора кивнула.
Фома склонился к ней и коснулся губами щеки. Потом выпрямился – и вдруг опять показался Феодоре отстраненным; он кивнул сестре, и ромеи вдвоем быстро направились к двери.
Московитка простерлась на постели, ощущая, как загорелось лицо от обиды, – хотя ее никто не обижал, а только заботились всеми силами! Но она сейчас как никогда остро ощущала себя варваркой на заседании сената; повернулась спиной к двери, но до того, как задремала, уловила приглушенный быстрый разговор в коридоре.
Феодора прикрыла руками уши и зажмурилась, ощущая, как на подушку сбегают горячие слезы.
Однако ничего важного без нее так и решилось – хотя и, несомненно, решалось; но Феодора давно научилась читать по лицам своих покровителей. И они ее, конечно, давно не держали за дуру.
Феофано оставалась у Нотарасов, пока роженица не оправилась; и тогда они с Феодорой стали вдвоем гулять по саду, беря с собой ребенка. Маленького Александра всегда несла мать – но он и у нее нередко капризничал… Впрочем, за разговором они забывали обо всем, даже о сходстве мальчика с Фомой.
На второй день Феофано попутно заметила стрелы, торчащие в деревьях. А может – нет, наверное, она заметила их давно: и только сейчас нашла случай похвалить свою подругу, как делали все умные правители!
- Фома так и не приказал вытащить их? Деревьям ведь больно, - смеясь, заметила царица.
Феодора пожала плечами.
- Фома хотел, чтобы наш сад сохранил память о моем искусстве… Это лучшие выстрелы, остальные стрелы я выдернула.
Феофано понимающе кивнула. Конечно, ее умница-брат сочетал в этом признании восхищение с желанием уязвить: чтобы жена, глядя на раненые яблони, всякий раз вспоминала, что значит искусство убивать. Особенно - лук в женских руках!
Лакедемонянка вдруг коснулась ее локтя, заставив остановиться.
- Твой старший сын чудесно рисует, я уже хвалила его Фоме. Дромоны как настоящие – удивительно, что он мог запомнить: ведь видел своими глазами только один! По рисункам в книгах, которые вы ему читали, так не изобразишь!
Феодора улыбнулась, ощутив, как сжалось сердце: поняв, что это только предисловие. Феофано закусила губу и приставила палец к подбородку: ее глаза заблестели.
- Леонард Флатанелос здесь… я не хотела говорить при брате.
Феодора родила сына, как надеялась и она, и муж, - точно ее с некоторых пор кто-то благословил на рождение сыновей, во славу Римской империи: слишком поздно!
Когда она мучилась родами, в имении уже была Феофано с Анастасией, приехавшая заблаговременно. И, как всегда бывало, близость подруги вдохнула в московитку силы: она вытолкнула ребенка меньше, чем за полчаса.
Хотя теперь думала, что так справилась бы и сама…
- Не повредила бы ты ему – голову! – говорил Фома, которого только присутствие Феофано удержало от того, чтобы напиться: так он волновался. – У тебя внутри наросли такие же мышцы, как снаружи!
- Еще бы ты на это жаловался, - сказала Феофано, посмеиваясь: точно это она родила сейчас сына, а не подруга. – Поблагодари свою жену и почти ее подарком!
- Я не знаю, что ей подарить, - звезду с неба? – пробормотал Фома, глядя на жену блаженными глазами.
- Ах, да замолчите вы оба, - отозвалась со своей постели роженица. – Не видите – ребенок заснул!
Тотчас же все притихло. Малыш Александр, - как родители решили назвать его сразу в честь древнего македонского полубога и святого русского князя-освободителя, - спал гораздо более чутко, чем его братья Вард и Лев. Это не обязательно означало хрупкость здоровья; но Александр, несомненно, удался в отца намного более, чем другие дети Феодоры.
Фома взял мальчика у жены и коснулся золотистого пушка на его голове, погладил белую щечку.
- Это настоящий мой наследник, - прошептал патрикий в упоении.
А Феодора вдруг вспомнила о ребенке Фомы и Метаксии, которому не суждено было родиться, хотя эти двое были только двоюродные брат и сестра: и подумала, что блистательное имя, которое дали ее младшему сыну, для него что золотая цепь, подаренная не по заслугам. Имя Александра не поможет мальчику, а только утянет его на дно: как тех, кто уже утоп в Пропонтиде… Ее новый сын не станет опорой для Варда и защитником людей – а будет тянуть из всех силы, как делал Фома: одним на роду написано брать, как другим давать!
Но ничего не поделаешь.
Однако этот ребенок осчастливил Фому и наполнил его жизнь смыслом – уже этим он подарок. Фома Нотарас мог бы очень повредить им всем в самом скором будущем, рассчитываясь за свою поруганную гордость и отвергнутую любовь!
Когда Фома вышел из спальни, давая покой жене и сыну, - а может, чтобы наконец напиться на радостях без чужих глаз, - Феофано присела рядом со своей филэ.
- Хочешь ли ты, чтобы я увезла Анастасию в город, - или оставить ее тебе? Не думаю, что она будет обузой, - это здоровая и воспитанная девочка…
Феодора ощутила укол вины, как всякий раз, когда ей напоминали, что сын ей всегда был милее дочери. Но Феофано смотрела на нее с полным пониманием – с такою же любовью и твердостью, что и всегда! Феодора поцеловала руку царицы и прижала ее к своей щеке.
- Оставляй, - прошептала она. – Мы теперь полная семья… к добру или к худу.
Феофано склонилась над нею и поцеловала в лоб.
- Сейчас спи… мы поговорим позже.
Феодора знала, что им нужно поговорить, - но знала, глядя на Феофано, что это подождет: как всегда, она доверилась своей патронессе. Московитка закрыла глаза и через мгновение уже спала.
Феофано посмотрела на спящих мать и сына – потом перекрестила их.
- А и все равно… - пробормотала лакедемонянка. Махнула тою же рукой, которой крестила подругу, и вышла из комнаты, прикрыв за собой дверь.
Когда Феодора отдохнула, поела и села в постели кормить ребенка, Феофано опять пришла к ней: одна, без Фомы. Дождавшись, когда младенец наелся и снова уснул, лакедемонянка заговорила.
- Я привезла вам с братом новости… никакой вестник не успел бы раньше меня, а так я послала бы к вам еще прежде того…
Феодора встревожилась, приподнялась.
- Что-то серьезное?
- Пожалуй… хотя мелочей в политике не бывает, - ответила Феофано. – Димитрий Палеолог начал переговоры с Мехмедом – зверь опять заурчал, предвкушая добычу… Султан проголодался!
Феодора схватилась за грудь, ощущая, как пресеклось дыхание. Пришел час! Конечно, Константин защищал свой город до смерти, - но ведь то был Константин! А если бы на месте василевса был его брат Иоанн, которому Феофано все-таки помогла отправиться на тот свет, - или Димитрий после смерти Иоанна успел бы сесть в Царьграде раньше Константина?
Не согласился бы он сдать Город так же, как теперь торгуется за Мистру?..
- Димитрий сдает ему Мистру? – прошептала московитка. Ребенок рядом захныкал; Феофано взглянула на него, и Александр замолчал.
- Нет еще… но это будет скоро, - сказала лакедемонянка. – Видишь ли, героями люди становятся тогда, когда другого выхода нет! На Константина смотрел весь мир – и слава его равнялась славе всех греков! А о Димитрии, даже если он обретет худую славу, поговорят и забудут. Он уже сейчас тихо перебрался на остров Энос, который султан оставил в его власти, - а когда и это отберут, скорее всего, деспот и вовсе уедет в Европу или уйдет в монастырь…
- И все, - пробормотала Феодора.
- И все, - подтвердила царственная подруга.
Вот так обыкновенно – умер целый христианский мир!
- А нам что тогда делать? – спросила Феодора.
Гречанка сложила руки на груди.
- Это я и приехала обсудить, - сказала она.
Взглянула на закрытую дверь.
- Пойду отыщу братца – если он еще способен говорить…
Феодора нахмурилась: ее вдруг оскорбило такое замечание, хотя, живя врозь с мужем, она сама порою смеялась над ним!
Но Феофано привела Фому довольно быстро, хотя и не сразу: патрикий был совершенно трезв, только очень возбужден. Должно быть, они уже успели поговорить за дверью.
- Ты наконец признала, что я в чем-то прав! – громко воскликнул хозяин дома, обращаясь к сестре; видимо, продолжая разговор, начатый в коридоре. Казалось, он совершенно забыл даже про своего долгожданного сына.
- Тихо!.. Я никогда не говорила, что ты во всем неправ, - тут же понизив голос, отвечала Феофано. – Я говорила тебе только, что следует поступать сообразно с нашей честью и положением…
Феофано взглянула на подругу.
- Может быть, мы поговорим с тобой потом? Ты же видишь, Фома сейчас разбудит ребенка! Да и тебе самой нельзя утомляться!
- Нет, я желаю хотя бы слушать вас… если не смогу участвовать, - возразила Феодора. Она, как когда-то давно, вдруг ощутила себя варваркой на заседании сената. – Пусть Александра возьмет Магдалина, а мы закроемся здесь и побеседуем…
- Хорошо, - согласилась царица после небольшого раздумья.
Сияющая итальянка - для нее, простой души, все дети были благословением Божьим! – унесла мальчика из комнаты; и двое благородных византийцев остались наедине со своей бывшей рабыней.
Фома сел рядом с женой на постель, взяв ее за руку одной рукой, а другой приобняв за плечи: словно затем, чтобы защитить Феодору от власти сестры, что он пытался делать все эти годы – безуспешно!
Феофано, встав посреди комнаты и поставив одну ногу на скамеечку, как оратор на форуме, взяла слово.
- Феодора, Дионисий прислал тебе привет и поздравления… и еще одну старинную фамильную драгоценность, от своего лица: твоя подвеска остается подарком Валента.
- Какую драгоценность? – изумилась Феодора. Она даже забыла удивиться тому, что Феофано начала совсем не с того, с чего следовало.
- Пояс, позолоченная бронза с бирюзой и жемчугами, - очень прочный и красивый, хотя камни кое-где выпали… можно сказать, что и мужской, и женский сразу: к нему можно крепить кинжал, - ответила царица. - Есть и ножны, из цельного голубого халцедона: как раз к твоему кинжалу, - объяснила Феофано, улыбаясь и показывая на своей сильной стройной фигуре.
- Но тебе пояс пока тесноват… немного погодя примеришь.
Феодора улыбнулась такой персидской многозначности.
- А как там мой Лев? Он не вспоминает меня? – с неожиданной ревностью спросила московитка.
Феофано качнула головой.
- С ребенком все прекрасно, - утешающе сказала она. – Будь это не так, я сообщила бы первым делом…
Гречанка взялась за лоб.
- Дионисий просватал Дарию, - прибавила она без всякой радости: только озабоченно. – У него родились еще внук и внучка от старших дочерей – теперь у Дионисия трое внуков…
- А у Валента, наверное, поспело уже двое турецких внуков: наверное, еще больше турецких детей! – фыркнула московитка.
Феофано взглянула на нее без улыбки.
- Весьма возможно.
Она помолчала и прибавила:
- Мардоний сбежал от Валента и его турецких хозяев, оказывается, - еще много месяцев назад: а мы ничего не знали! Его теперь считают мертвым…
Феодора закусила губу.
- Господи…
Феофано посмотрела на брата.
- Но мальчик может быть жив. И если он жив, то искать его следует в Константинополе. Только там он мог спрятаться… и выжить. Слабым детям жизненно нужны города!
Фома поджал губы.
- Ты сейчас хотела сказать, Метаксия, что без этого аммониевского мальчишки мы никуда не уедем!
Феофано улыбнулась с жалостливым пониманием.
- Да, брат, именно так. Если Мардоний жив, мы не можем его бросить: тем более, если он сбежал! Это очень храбрый поступок!
Патрикий вздохнул и прикрыл глаза ладонью. Он больше не возражал: скорее смирялся - перед фантазиями женщины, которая не видит настоящего положения дел.
- Так ты все же признала, что нам следует в конце концов бежать, - сказал он с горькой иронией: покосился на сестру и тут же опять отвернулся. – И куда, моя отважная спартанка? Твои достославные предки не рассчитывали, что будут делать, если останутся живы, - и в конце концов их обошли те, кто не столь храбр, но умеет рассчитывать: потому что ум изощряется только так! Это закон истории, сестра, – ловкие всегда побеждают… по крайней мере, чем далее, тем более, и будущее принадлежит именно им!
Патрикий улыбнулся: улыбка едва тронула уголки рта.
- Хотел бы я знать, о чем ты разговариваешь со своим Марком, когда вы не заняты любовью или войной! Твой постоянный, как солнце, обожатель способен связать хотя бы два слова?
Феофано яростно хлопнула ладонью по колену, глаза ее вспыхнули: а Фома рассмеялся, поняв, что задел больное место.
- Я не желаю говорить с тобой о Марке! Тебе не понять, - уничижительно прибавила царица.
Она взглянула на подругу.
- Вернемся к тому, что мы обсуждали.
Феофано хотела продолжить, но не смогла; неожиданно замялась под взглядом брата, прикрыв ладонями пылающие щеки. Упоминание о Марке растравило слишком многое в ее душе, и лакедемонянка вдруг словно сдала позиции.
- Может быть, ты предложишь, куда нам отступить, Фома?
Патрикий насмешливо поклонился.
- Охотно, моя госпожа. Мы можем бежать в Италию, куда бежали уже многие не столь героические наши соотечественники. И там, по крайней мере, еще остались места, где можно дышать и гулять! Хотя Рим загажен до крайности, еще больше Константинополя, - Фома усмехнулся. – Но все же не так, как Париж или Мадрид! Рим строили не дикари!
Феофано сдвинула брови и прикусила яркие губы. Но она не бранилась и не смеялась над такой мыслью.
- Ты хорошо сказал, - произнесла царица. – Но уплыть в Италию трудно… куда труднее, чем два года назад!
- Что же ты медлила до сих пор? – рассмеялся брат. – Ты ведь, помнится мне, уже тогда не воевала! Тебе хотелось покрасоваться перед умирающими, новая царица амазонок?
Феофано чуть не влепила ему пощечину за такие слова; чудом удержалась. Она вся раскраснелась, и Феодора поняла, что слова недостойного брата опять обернулись правдой: в самом глубинном их смысле!
Как же все-таки этот человек умен!
- Что ж, порешим на Италии, - заключила лакедемонянка.
Фома склонил голову. Несмотря ни на что, последнее слово в их собраниях всегда оставалось за нею.
- Будем обрывать связи… и налаживать новые. Я ведь знаю, что самое главное – нацелить мысль, - улыбнулась Феофано обоим родственникам; потом устремила все внимание на Феодору.
- А сейчас довольно об этом! Тебе нужно отдохнуть, любовь моя.
Феодора улыбнулась, ощущая и неловкость, и счастье: как всегда, когда Феофано называла ее таким нежным именем в присутствии мужа. Патрикий тоже мягко улыбнулся жене.
- Отдыхай и ни о чем не думай сейчас. Я велю принести Александра, но Магдалина присмотрит за ним.
Феодора кивнула.
Фома склонился к ней и коснулся губами щеки. Потом выпрямился – и вдруг опять показался Феодоре отстраненным; он кивнул сестре, и ромеи вдвоем быстро направились к двери.
Московитка простерлась на постели, ощущая, как загорелось лицо от обиды, – хотя ее никто не обижал, а только заботились всеми силами! Но она сейчас как никогда остро ощущала себя варваркой на заседании сената; повернулась спиной к двери, но до того, как задремала, уловила приглушенный быстрый разговор в коридоре.
Феодора прикрыла руками уши и зажмурилась, ощущая, как на подушку сбегают горячие слезы.
Однако ничего важного без нее так и решилось – хотя и, несомненно, решалось; но Феодора давно научилась читать по лицам своих покровителей. И они ее, конечно, давно не держали за дуру.
Феофано оставалась у Нотарасов, пока роженица не оправилась; и тогда они с Феодорой стали вдвоем гулять по саду, беря с собой ребенка. Маленького Александра всегда несла мать – но он и у нее нередко капризничал… Впрочем, за разговором они забывали обо всем, даже о сходстве мальчика с Фомой.
На второй день Феофано попутно заметила стрелы, торчащие в деревьях. А может – нет, наверное, она заметила их давно: и только сейчас нашла случай похвалить свою подругу, как делали все умные правители!
- Фома так и не приказал вытащить их? Деревьям ведь больно, - смеясь, заметила царица.
Феодора пожала плечами.
- Фома хотел, чтобы наш сад сохранил память о моем искусстве… Это лучшие выстрелы, остальные стрелы я выдернула.
Феофано понимающе кивнула. Конечно, ее умница-брат сочетал в этом признании восхищение с желанием уязвить: чтобы жена, глядя на раненые яблони, всякий раз вспоминала, что значит искусство убивать. Особенно - лук в женских руках!
Лакедемонянка вдруг коснулась ее локтя, заставив остановиться.
- Твой старший сын чудесно рисует, я уже хвалила его Фоме. Дромоны как настоящие – удивительно, что он мог запомнить: ведь видел своими глазами только один! По рисункам в книгах, которые вы ему читали, так не изобразишь!
Феодора улыбнулась, ощутив, как сжалось сердце: поняв, что это только предисловие. Феофано закусила губу и приставила палец к подбородку: ее глаза заблестели.
- Леонард Флатанелос здесь… я не хотела говорить при брате.
Re: Ставрос
Глава 103
- Но как комес смог вернуться сюда? – спросила Феодора.
Она беспомощно огляделась, ощущая, как подкашиваются ноги; Феофано кивнула ей на скамью под деревьями. Подруги подошли к скамье и сели.
Феодора рассеянно подергала стрелу, торчавшую из седого яблоневого ствола над ее головой; все ее внимание было устремлено на царицу. Даже ребенка, лежавшего на другой ее согнутой руке, она перестала чувствовать.
- Как Леонард попал назад? – повторила московитка.
- Так же, как в свое время его родич Никифор, - сказала Феофано, улыбаясь. – Многие итальянские и другие европейские суда свободно входят в Золотой Рог – конечно, те, у кого уложения с султаном. Но у комеса здесь осталось слишком много врагов, и он принужден скрываться… Знаешь, что всего забавнее? – вдруг рассмеялась гречанка. – Что главные его враги – не турки, а греки: свои, предатели…
- Это мне понятно, - сказала Феодора.
Она очень пожалела, что не взяла с собой кормилицу: так дрожали руки, на которых спал Александр.
Хотя что за глупости – при таком разговоре не должно быть чужих ушей, даже если это испытанные слуги!
- Где комес сейчас? – спросила московитка.
- В Мистре, - Феофано склонилась к ней, - и я говорила с ним сама, во дворце деспота.
Феодора спрятала лицо в ладонях.
- Но зачем он здесь? Разве ему это выгодно?
- Многие люди руководствуются соображениями выгоды, и даже большинство, - согласилась Феофано. – Но Леонард не таков, потому ты помнишь и любишь его до сих пор… Однако он сейчас богат и свободен, Феодора, - и не думаю, что в своих странствиях комес сделался святым.
Феофано выразительно прервалась.
- Я понимаю, - сказала Феодора. – Но ведь он не…
- Он благородный пират! Да, комес похож на меня, потому нас и влечет друг к другу, и сводит судьба, - рассмеялась лакедемонянка.
Феодора прикрыла глаза.
- Он спрашивал обо мне? – прошептала она.
- Прежде всего остального, - серьезно ответила подруга. – Мне кажется, дорогая, что ты и была главной причиной, которая привлекла его сюда, домой… Я не хочу сказать, что Леонард непременно попытается похитить тебя, как Валент, - поспешно прибавила Феофано. – Но он, как и Валент, способен на длительную глубокую страсть, и страсть возвышенную: комес нашел в тебе что-то, чего не видел в других женщинах, и с этих пор стал твоим рыцарем. Или жрецом, - лукаво сказала царица. – Как тебе больше понравится.
Она помолчала.
- Леонард ведь критянин, а эти морские люди издревле почитали великую женскую богиню, как начало всего!*
Тут только Феодора поняла, чем Леонард Флатанелос неосознанно привлек ее с первого взгляда. Она отвернулась.
- Ты хочешь сказать, Метаксия, что Леонард для нас – лучшая возможность спастись? – спросила московитка.
Вдруг она ощутила отвращение к расчетливости гречанки – хотя это обычное женское свойство! Кто же еще будет беречь жизнь и для этого мелочиться, если не жены?
Феофано долго не отвечала. По ее лицу пробегали солнечные блики: и огромные неподвижные глаза, подведенные черным, и яркие твердые губы были как у раскрашенной церемониальной статуи Геры. Какая же эта женщина настоящая?
Феофано поправила тонкую головную повязку, прижимавшую к темени черные волны волос.
- Это может быть не только лучшая возможность для нас, славянка, - но и единственная, - наконец произнесла она. – Мне очень трудно будет уехать неузнанной, как Леонарду было вернуться… Не думай, что действуют одни наши шпионы в Стамбуле… или что градоначальник мог забыть меня. Наверняка люди паши получили приказ схватить меня и доставить к нему: меня или мою голову…
Феодора сжала руки. Она неосознанно сдавила ребенка, так что он проснулся и захныкал; несколько минут мать унимала его, пока Александр снова не заснул.
И тогда она спросила:
- Но разве покинуть Византию можно только через Константинополь?
- Туда причаливают его корабли… и там сейчас стоит его корабль, - сказала Феофано. – Там Леонарду Флатанелосу известны все пути – и в Константинополе у него еще есть друзья, как и враги. Кроме того, Пропонтида сейчас безопаснее всего для союзников султаната – Мехмед охраняет морские пути от пиратов, к которым легко угодить, отклонившись от привычного курса. Ты не знаешь, Феодора, как давно тщательно измерены и поделены морские владения нашей империи! – рассмеялась императрица.
Она вздохнула.
- Я даже осталась бы здесь, будь я одна, - прошептала Феофано. – Но ведь у меня есть все вы, мои дети! Вам нужен свежий воздух и будущее, которого у Византии больше нет!
Феодора благодарно схватила и прижала к губам руку покровительницы.
Справившись с волнением, она спросила:
- Когда ты думаешь бежать?
- Когда придет час… я чувствую, что еще рано, - ответила гречанка. – Может быть, время нам нужно на то, чтобы Ибрахим-паша забыл меня, а Валент тебя, - улыбнувшись, заметила она. – И твой маленький сын… везти такого малыша морем – верная погибель. Как и везти его через наши зачумленные города, где только плебс рожает детей от безвыходности! Благородные люди должны растить детей сильными!
- И Фома не перенесет, если мы потеряем Александра, - прошептала Феодора.
Феофано кивнула.
Женщины долго молчали. Потом Феофано сказала:
- Пойдем в дом, отдай ребенка няньке. И я покажу тебе твой пояс – Дионисий оскорбился бы, узнай он, что ты до сих пор его не видела!
Пояс, как и ожидала Феодора, немало польщенная таким знаком внимания, оказался настоящим доспехом – частью сборного доспеха, какие носили в дохристианские времена воины по всей Греции и Малой Азии.
- Он выкован еще раньше античности, я так думаю… и Дионисий тоже, хотя он хуже меня знает историю, - сказала Феофано, почти благоговейно касаясь гладких звеньев и сочленений. Позолота местами сошла, бронзу тронула зелень, но сочленения не утратили своей подвижности и нигде не нарушились. Жемчуга и бирюза были рассыпаны по всему доспеху с кажущейся небрежностью: но, кроме нескольких камней и перлов, все украшения сидели прочно.
- Видишь – бронза, древнейший металл оружейников; а еще халцедоновые ножны: этот камень исстари добывали в Малой Азии. Бирюза – тоже старинный поделочный камень, его знали и любили во многих государствах древнего Востока, и добывали на Синае и в Персии! Пояс широкий, хорошо защитит живот и спину, но при этом не отяготит хозяина чрезмерно… И рассчитан на тонкую талию, - Феофано взвесила доспех на одной руке и взглянула на московитку.
- А самое главное – он расширяется от талии к бедрам!
Феодора прошептала:
- Так это настоящий пояс амазонки!
- Может быть, одной из тех азиаток, от которых пошли легенды о безмужних воительницах, - согласилась Феофано. – Несомненно одно - пояс действительно принадлежал благородной женщине и воительнице… Хотя мы можем и ошибаться.
Она бесшабашно улыбнулась.
- Защитные пояса-юбки много где носили мужчины, а расширение в бедрах могло быть сделано только для удобства, чтобы свободно бегать и скакать на коне… Но подобный доспех мог быть выкован на женщину, а это для нас главное…
Феофано выпрямилась.
- Погоди! Я покажу тебе!
Лакедемонянка, приведя саму себя в восторг, захлопала в ладоши; потом, подхватив подарок Дионисия, выбежала из комнаты.
Через некоторое время – очень скоро, как показалось Феодоре, - она снова вошла, и Феодора сложила руки в благоговении.
На Феофано был короткий пурпурный хитон – покрой, любимый греческими конниками; сильные бедра были плотно обернуты полотняной повязкой, а поверх надет пояс Феодоры, вместе с панцирем самой царицы, защищавшим грудь и спину. Ноги прикрывали наколенники, руки – наручи: все это византийские воины сейчас носили поверх штанов и туник с длинными рукавами, но на обнаженных руках и ногах Феофано доспехи сидели великолепно. Феофано вышла к подруге без шлема: и тем ярче, тем более вызывающе было видно женщину.
Феодора в порыве восторга и чувства справедливости хотела просить госпожу оставить пояс себе; но лакедемонянка покачала головой, угадав ее желание.
- Передаривать такие дары – оскорбление: у нас… и у вас тоже, насколько мне известно, - сказала она.
Феофано расстегнула пояс и протянула его подруге, прибавив полушутя:
- Эту вещь у тебя могут взять только с боя!
Феодора со слезами благодарности и гордости поцеловала пояс и пошла прятать его в сундук – не зная, суждено ли ей надеть этот доспех когда-нибудь. Не затем, чтобы покрасоваться!
Запирая сундук, она вспоминала о яблонях в своем саду.
Дарий Аммоний к своим семнадцати годам ощущал себя мужчиной, достойным этого звания. Из него так и не вышло воина – хотя мечом и луком он овладел сносно: и мог бы отбиться от простого мирного человека, даже от группы низких людей, из которых не воспитывали защитников и убийц. И так же твердо, как когда-то выехал на поле боя, Дарий пошел к дяде и изъявил желание поехать в Константинополь на розыски младшего брата.
Дионисий изумился, потом выразил желание поехать с ним, хотя был очень занят со своей семьей: которая сейчас нуждалась – и в пропитании, и в защите. Но Дионисий знал, на что способны оба Валентовых сына, - и если Дария не отпустить, он сбежит самовольно!
Дарий стал на колени, услышав такое предложение.
- Побереги свои силы, дорогой дядя, - горячо сказал он, поцеловав оплетенную жилами мощную руку. – Они нужны твоей жене и дочерям… и сыну тоже! Я уже взрослый, и смогу сам позаботиться о себе! Я даже могу жениться! – прибавил юноша с румянцем на щеках.
Дионисий улыбнулся, потом поднял племянника с колен и прижал к сердцу.
- Ты достоин имени своего отца больше своего отца, - сказал он. – Я не буду тебя удерживать: поезжай. Я дам тебе воинов и проводников, но немного; и совсем немного золота. Тебе придется решать, как поступать с собой и своим братом, буде ты отыщешь его!
Дарий низко поклонился дяде и убежал собираться в путь.
Кассандра, услышавшая разговор из-за занавеси, тихо выступила из своего укрытия и подошла к мужу.
- Почему ты отпустил его? – воскликнула она. – Дарий сгинет, как его брат!
- Может быть, - сумрачно ответил ее господин. Он погладил жену по медным волосам, все еще красивым и пышным, несмотря на седину. – Значит, такова его судьба. Сын моего брата вырос и желает испытать себя, как все мужчины.
Кассандра покачала головой; потом вдруг схватила мужа своими маленькими руками за плечи и развернула к себе, впиваясь в его лицо сверкающими голубыми глазами.
- Ты не понимаешь! Его может ожидать совсем недостойная участь!
Дионисий сжал губы и окаменел на несколько мгновений, прекрасно поняв Кассандру; а потом ответил:
- Дарий умрет раньше, чем это случится. Как бы то ни было, удерживать его я не вправе! Он истинно благороден, как сулило его имя с рождения!*
Дария с любовью, гордостью и страхом провожали две его двоюродные сестры, Кира и Ксения; Кассандра вышла проводить племянника с приемным сыном, Львом, на руках. Мальчик озирал окружающее, словно все присваивая себе или примечая как свою собственность; но на руках у приемной матери сидел с удовольствием.
Дарий взял малыша у тетки и поцеловал его.
- Бог видит тебя, - прошептал юноша. Хотел еще что-то добавить, перекрестить Льва – но не добавил и не перекрестил. Опустил мальчика и подошел под благословение Кассандры.
Кассандра погладила племянника по черным длинным волосам, а он поцеловал ей руку и поклонился.
Потом Дарий пошел к дяде, занятому в своих комнатах, и долго говорил с ним без чужих ушей и глаз. И наконец покинул дом и сел на коня: с луком за узкими плечами, с мечом на поясе, обхватывавшим тонкую гибкую талию. Небольшая свита уже ожидала Дария, сидя в седлах.
Дионисий и Кассандра стояли на пороге, в мягком домашнем свете, обрисовывавшем их крепкие фигуры: Кассандра совсем не потерялась рядом с мужем, несмотря на свой небольшой рост. Она помахала Дарию рукой; и Дионисий тоже поднял руку в прощании.
Дарий помахал родственникам рукой, слезы блеснули в больших черных девических глазах – потом юноша поворотил коня и поскакал прочь; его воины последовали за ним.
И только облако пыли осело на дороге.
Дионисий обернулся к полной тревоги жене.
- Он не пропадет, - сказал старший из Аммониев. – Бог видит его.
Дарий пропал.
Он исчез, как Мардоний, - даже еще хуже: о Мардонии было хотя бы известно, что его привезли в Константинополь, где он и бежал от власти отца; а о Дарии не знали даже, добрался ли он до Города.
Искать Дария, как он – Мардония, никто не поехал: у повстанцев некому больше было погибать. Их осталось ничтожно мало – и еще меньше тех, кто мог держать оружие.
* Минойская (критская) религия действительно была в некоторой степени матриархальна.
* Дарий (от др.-перс. "Дараявауш") – "держащий добро".
- Но как комес смог вернуться сюда? – спросила Феодора.
Она беспомощно огляделась, ощущая, как подкашиваются ноги; Феофано кивнула ей на скамью под деревьями. Подруги подошли к скамье и сели.
Феодора рассеянно подергала стрелу, торчавшую из седого яблоневого ствола над ее головой; все ее внимание было устремлено на царицу. Даже ребенка, лежавшего на другой ее согнутой руке, она перестала чувствовать.
- Как Леонард попал назад? – повторила московитка.
- Так же, как в свое время его родич Никифор, - сказала Феофано, улыбаясь. – Многие итальянские и другие европейские суда свободно входят в Золотой Рог – конечно, те, у кого уложения с султаном. Но у комеса здесь осталось слишком много врагов, и он принужден скрываться… Знаешь, что всего забавнее? – вдруг рассмеялась гречанка. – Что главные его враги – не турки, а греки: свои, предатели…
- Это мне понятно, - сказала Феодора.
Она очень пожалела, что не взяла с собой кормилицу: так дрожали руки, на которых спал Александр.
Хотя что за глупости – при таком разговоре не должно быть чужих ушей, даже если это испытанные слуги!
- Где комес сейчас? – спросила московитка.
- В Мистре, - Феофано склонилась к ней, - и я говорила с ним сама, во дворце деспота.
Феодора спрятала лицо в ладонях.
- Но зачем он здесь? Разве ему это выгодно?
- Многие люди руководствуются соображениями выгоды, и даже большинство, - согласилась Феофано. – Но Леонард не таков, потому ты помнишь и любишь его до сих пор… Однако он сейчас богат и свободен, Феодора, - и не думаю, что в своих странствиях комес сделался святым.
Феофано выразительно прервалась.
- Я понимаю, - сказала Феодора. – Но ведь он не…
- Он благородный пират! Да, комес похож на меня, потому нас и влечет друг к другу, и сводит судьба, - рассмеялась лакедемонянка.
Феодора прикрыла глаза.
- Он спрашивал обо мне? – прошептала она.
- Прежде всего остального, - серьезно ответила подруга. – Мне кажется, дорогая, что ты и была главной причиной, которая привлекла его сюда, домой… Я не хочу сказать, что Леонард непременно попытается похитить тебя, как Валент, - поспешно прибавила Феофано. – Но он, как и Валент, способен на длительную глубокую страсть, и страсть возвышенную: комес нашел в тебе что-то, чего не видел в других женщинах, и с этих пор стал твоим рыцарем. Или жрецом, - лукаво сказала царица. – Как тебе больше понравится.
Она помолчала.
- Леонард ведь критянин, а эти морские люди издревле почитали великую женскую богиню, как начало всего!*
Тут только Феодора поняла, чем Леонард Флатанелос неосознанно привлек ее с первого взгляда. Она отвернулась.
- Ты хочешь сказать, Метаксия, что Леонард для нас – лучшая возможность спастись? – спросила московитка.
Вдруг она ощутила отвращение к расчетливости гречанки – хотя это обычное женское свойство! Кто же еще будет беречь жизнь и для этого мелочиться, если не жены?
Феофано долго не отвечала. По ее лицу пробегали солнечные блики: и огромные неподвижные глаза, подведенные черным, и яркие твердые губы были как у раскрашенной церемониальной статуи Геры. Какая же эта женщина настоящая?
Феофано поправила тонкую головную повязку, прижимавшую к темени черные волны волос.
- Это может быть не только лучшая возможность для нас, славянка, - но и единственная, - наконец произнесла она. – Мне очень трудно будет уехать неузнанной, как Леонарду было вернуться… Не думай, что действуют одни наши шпионы в Стамбуле… или что градоначальник мог забыть меня. Наверняка люди паши получили приказ схватить меня и доставить к нему: меня или мою голову…
Феодора сжала руки. Она неосознанно сдавила ребенка, так что он проснулся и захныкал; несколько минут мать унимала его, пока Александр снова не заснул.
И тогда она спросила:
- Но разве покинуть Византию можно только через Константинополь?
- Туда причаливают его корабли… и там сейчас стоит его корабль, - сказала Феофано. – Там Леонарду Флатанелосу известны все пути – и в Константинополе у него еще есть друзья, как и враги. Кроме того, Пропонтида сейчас безопаснее всего для союзников султаната – Мехмед охраняет морские пути от пиратов, к которым легко угодить, отклонившись от привычного курса. Ты не знаешь, Феодора, как давно тщательно измерены и поделены морские владения нашей империи! – рассмеялась императрица.
Она вздохнула.
- Я даже осталась бы здесь, будь я одна, - прошептала Феофано. – Но ведь у меня есть все вы, мои дети! Вам нужен свежий воздух и будущее, которого у Византии больше нет!
Феодора благодарно схватила и прижала к губам руку покровительницы.
Справившись с волнением, она спросила:
- Когда ты думаешь бежать?
- Когда придет час… я чувствую, что еще рано, - ответила гречанка. – Может быть, время нам нужно на то, чтобы Ибрахим-паша забыл меня, а Валент тебя, - улыбнувшись, заметила она. – И твой маленький сын… везти такого малыша морем – верная погибель. Как и везти его через наши зачумленные города, где только плебс рожает детей от безвыходности! Благородные люди должны растить детей сильными!
- И Фома не перенесет, если мы потеряем Александра, - прошептала Феодора.
Феофано кивнула.
Женщины долго молчали. Потом Феофано сказала:
- Пойдем в дом, отдай ребенка няньке. И я покажу тебе твой пояс – Дионисий оскорбился бы, узнай он, что ты до сих пор его не видела!
Пояс, как и ожидала Феодора, немало польщенная таким знаком внимания, оказался настоящим доспехом – частью сборного доспеха, какие носили в дохристианские времена воины по всей Греции и Малой Азии.
- Он выкован еще раньше античности, я так думаю… и Дионисий тоже, хотя он хуже меня знает историю, - сказала Феофано, почти благоговейно касаясь гладких звеньев и сочленений. Позолота местами сошла, бронзу тронула зелень, но сочленения не утратили своей подвижности и нигде не нарушились. Жемчуга и бирюза были рассыпаны по всему доспеху с кажущейся небрежностью: но, кроме нескольких камней и перлов, все украшения сидели прочно.
- Видишь – бронза, древнейший металл оружейников; а еще халцедоновые ножны: этот камень исстари добывали в Малой Азии. Бирюза – тоже старинный поделочный камень, его знали и любили во многих государствах древнего Востока, и добывали на Синае и в Персии! Пояс широкий, хорошо защитит живот и спину, но при этом не отяготит хозяина чрезмерно… И рассчитан на тонкую талию, - Феофано взвесила доспех на одной руке и взглянула на московитку.
- А самое главное – он расширяется от талии к бедрам!
Феодора прошептала:
- Так это настоящий пояс амазонки!
- Может быть, одной из тех азиаток, от которых пошли легенды о безмужних воительницах, - согласилась Феофано. – Несомненно одно - пояс действительно принадлежал благородной женщине и воительнице… Хотя мы можем и ошибаться.
Она бесшабашно улыбнулась.
- Защитные пояса-юбки много где носили мужчины, а расширение в бедрах могло быть сделано только для удобства, чтобы свободно бегать и скакать на коне… Но подобный доспех мог быть выкован на женщину, а это для нас главное…
Феофано выпрямилась.
- Погоди! Я покажу тебе!
Лакедемонянка, приведя саму себя в восторг, захлопала в ладоши; потом, подхватив подарок Дионисия, выбежала из комнаты.
Через некоторое время – очень скоро, как показалось Феодоре, - она снова вошла, и Феодора сложила руки в благоговении.
На Феофано был короткий пурпурный хитон – покрой, любимый греческими конниками; сильные бедра были плотно обернуты полотняной повязкой, а поверх надет пояс Феодоры, вместе с панцирем самой царицы, защищавшим грудь и спину. Ноги прикрывали наколенники, руки – наручи: все это византийские воины сейчас носили поверх штанов и туник с длинными рукавами, но на обнаженных руках и ногах Феофано доспехи сидели великолепно. Феофано вышла к подруге без шлема: и тем ярче, тем более вызывающе было видно женщину.
Феодора в порыве восторга и чувства справедливости хотела просить госпожу оставить пояс себе; но лакедемонянка покачала головой, угадав ее желание.
- Передаривать такие дары – оскорбление: у нас… и у вас тоже, насколько мне известно, - сказала она.
Феофано расстегнула пояс и протянула его подруге, прибавив полушутя:
- Эту вещь у тебя могут взять только с боя!
Феодора со слезами благодарности и гордости поцеловала пояс и пошла прятать его в сундук – не зная, суждено ли ей надеть этот доспех когда-нибудь. Не затем, чтобы покрасоваться!
Запирая сундук, она вспоминала о яблонях в своем саду.
Дарий Аммоний к своим семнадцати годам ощущал себя мужчиной, достойным этого звания. Из него так и не вышло воина – хотя мечом и луком он овладел сносно: и мог бы отбиться от простого мирного человека, даже от группы низких людей, из которых не воспитывали защитников и убийц. И так же твердо, как когда-то выехал на поле боя, Дарий пошел к дяде и изъявил желание поехать в Константинополь на розыски младшего брата.
Дионисий изумился, потом выразил желание поехать с ним, хотя был очень занят со своей семьей: которая сейчас нуждалась – и в пропитании, и в защите. Но Дионисий знал, на что способны оба Валентовых сына, - и если Дария не отпустить, он сбежит самовольно!
Дарий стал на колени, услышав такое предложение.
- Побереги свои силы, дорогой дядя, - горячо сказал он, поцеловав оплетенную жилами мощную руку. – Они нужны твоей жене и дочерям… и сыну тоже! Я уже взрослый, и смогу сам позаботиться о себе! Я даже могу жениться! – прибавил юноша с румянцем на щеках.
Дионисий улыбнулся, потом поднял племянника с колен и прижал к сердцу.
- Ты достоин имени своего отца больше своего отца, - сказал он. – Я не буду тебя удерживать: поезжай. Я дам тебе воинов и проводников, но немного; и совсем немного золота. Тебе придется решать, как поступать с собой и своим братом, буде ты отыщешь его!
Дарий низко поклонился дяде и убежал собираться в путь.
Кассандра, услышавшая разговор из-за занавеси, тихо выступила из своего укрытия и подошла к мужу.
- Почему ты отпустил его? – воскликнула она. – Дарий сгинет, как его брат!
- Может быть, - сумрачно ответил ее господин. Он погладил жену по медным волосам, все еще красивым и пышным, несмотря на седину. – Значит, такова его судьба. Сын моего брата вырос и желает испытать себя, как все мужчины.
Кассандра покачала головой; потом вдруг схватила мужа своими маленькими руками за плечи и развернула к себе, впиваясь в его лицо сверкающими голубыми глазами.
- Ты не понимаешь! Его может ожидать совсем недостойная участь!
Дионисий сжал губы и окаменел на несколько мгновений, прекрасно поняв Кассандру; а потом ответил:
- Дарий умрет раньше, чем это случится. Как бы то ни было, удерживать его я не вправе! Он истинно благороден, как сулило его имя с рождения!*
Дария с любовью, гордостью и страхом провожали две его двоюродные сестры, Кира и Ксения; Кассандра вышла проводить племянника с приемным сыном, Львом, на руках. Мальчик озирал окружающее, словно все присваивая себе или примечая как свою собственность; но на руках у приемной матери сидел с удовольствием.
Дарий взял малыша у тетки и поцеловал его.
- Бог видит тебя, - прошептал юноша. Хотел еще что-то добавить, перекрестить Льва – но не добавил и не перекрестил. Опустил мальчика и подошел под благословение Кассандры.
Кассандра погладила племянника по черным длинным волосам, а он поцеловал ей руку и поклонился.
Потом Дарий пошел к дяде, занятому в своих комнатах, и долго говорил с ним без чужих ушей и глаз. И наконец покинул дом и сел на коня: с луком за узкими плечами, с мечом на поясе, обхватывавшим тонкую гибкую талию. Небольшая свита уже ожидала Дария, сидя в седлах.
Дионисий и Кассандра стояли на пороге, в мягком домашнем свете, обрисовывавшем их крепкие фигуры: Кассандра совсем не потерялась рядом с мужем, несмотря на свой небольшой рост. Она помахала Дарию рукой; и Дионисий тоже поднял руку в прощании.
Дарий помахал родственникам рукой, слезы блеснули в больших черных девических глазах – потом юноша поворотил коня и поскакал прочь; его воины последовали за ним.
И только облако пыли осело на дороге.
Дионисий обернулся к полной тревоги жене.
- Он не пропадет, - сказал старший из Аммониев. – Бог видит его.
Дарий пропал.
Он исчез, как Мардоний, - даже еще хуже: о Мардонии было хотя бы известно, что его привезли в Константинополь, где он и бежал от власти отца; а о Дарии не знали даже, добрался ли он до Города.
Искать Дария, как он – Мардония, никто не поехал: у повстанцев некому больше было погибать. Их осталось ничтожно мало – и еще меньше тех, кто мог держать оружие.
* Минойская (критская) религия действительно была в некоторой степени матриархальна.
* Дарий (от др.-перс. "Дараявауш") – "держащий добро".