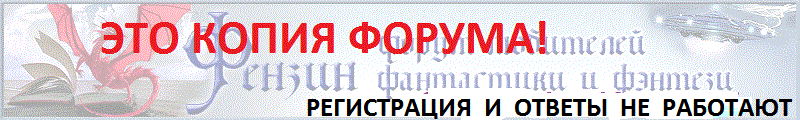Ставрос
Модератор: K.H.Hynta
Re: Ставрос
Глава 163
Спрыгнувшего на берег Сфорца, в черном бархатном плаще, в отделанной куньим мехом шапке, узнали сразу. Когда герцог поднял руку, чтобы откинуть с лица прилипшие темные волосы, блеснул рыцарский доспех – наручи, отделанные золотом.
- Герцог! Вы живы, слава богу! – воскликнул один из встречающих. Сфорца быстро повернулся, нахмурил брови… и узнал грека. Целая толпа греков высыпала, чтобы встречать его: людей довольно потрепанного вида.
Могущественный итальянец улыбнулся, посмотрев поверх их голов. Потом опять взглянул на того грека, который первым обратился к нему.
- Да, я жив, - сказал он. – А кто ты такой? Я тебя знаю?
Грек отступил и поклонился; вместе с почтительностью в нем проявилось нетерпение и достоинство, скрытое до поры до времени.
- Я служу Леонарду Флатанелосу, и мой господин оставил меня здесь для наблюдения за морем, - сказал он. – Должны ли мы понимать… что вы вернулись с победой? И где наш комес?
Сфорца вздохнул и положил греку на плечо свою руку воина; и вдруг тот понял, что итальянец едва жив от усталости. Как и те, кто приплыл с ним.
- Комеса с нами нет, - проговорил герцог: у него уже не было сил улыбаться и едва хватало сил отвечать. – Мы нашли Леонарда Флатанелоса, и он плыл с нами домой… но в пути нас разделила буря. Мы потеряли несколько кораблей, часть была отнесена далеко… это было у греческих берегов, где осенью очень неспокойно.
Грек отступил. Он ошеломленно взглянул на товарищей, и потом они все вместе снова воззрились на Сфорца, не решаясь спрашивать дальше – и не зная, что спрашивать. Леонардовы греки видели, как итальянцы сходят на берег, – их было много, корабли были полны и даже переполнены; но, без сомнений, в эту роковую для Мистры и всей Византии весну уплыло на восток гораздо больше.
- Но где же наши? Где все критяне… где македонцы? – спросили наконец герцога.
Сфорца взглянул на греков и отвернулся.
- Многие остались там, в Турции и в Византии, - сказал он. – Мы потеряли больше половины солдат.
Казалось, Сфорца не делает различия между своими и итальянцами.
Тут герцогу подвели его коня, которого только что спустили по сходням; ему помогли сесть на лошадь. Казалось, герцогу уже все безразлично – высокая особа думала только о еде и постели, каких бы то ни было.
Сфорца уехал, а греки так и остались, охваченные скорбью, ужасом… и возмущением. Им сейчас казалось, что их сородичей итальянцы затерли, бросили и предали; тем более, что никто из воинов и моряков, которые сейчас разгружались, шумели, разговаривали, уже не обращал внимания на ромеев. И греков среди итальянцев не было видно.
Тот, кто первым заговорил с герцогом, опять пробился вперед.
- Где наши? – воскликнул он.
И тут наконец появился человек, при виде которого у грека вырвался радостный крик. Он растолкал измученных дорогой людей, не обращая внимания на их оружие, и подбежал к тому, которого узнал.
- Господин! – воскликнул он.
Дионисий Аммоний, потрепанный и постаревший, уцелевший в неведомых бурях и сражениях, повернулся к критянину. Македонец улыбнулся так же белозубо, как раньше, улыбка очень украсила его… потом перестал улыбаться и сделался очень усталым и безразличным, подобно Сфорца.
- Я - Ангел, - ударив себя в грудь, торопливо проговорил Леонардов грек: как будто, назвав свое святое имя, он мог получить долгожданный отклик. – Где комес Флатанелос, наш господин?
- Мы не знаем, - сказал Дионисий. – Он был с нами, но буря разнесла наши корабли восемнадцать дней назад.
Тут Ангел понял, что добиться ответов от этих людей можно, только дав им еду и отдых.
- Здесь есть еще греки? Идемте с нами, - громко позвал он, махнув рукой: не разбирая чинов и заслуг прибывших греческих воинов. – Идемте, мы о вас позаботимся!
Тут Дионисию, как и герцогу, подвели лошадь; и Ангел немедленно оказался рядом. Он ухватился за стремя старого военачальника, наполовину страшась, наполовину гордясь своей ролью проводника.
Дионисий не возражал; обернувшись, он позвал своих, и венецианские греки наконец увидели, сколько их сородичей вернулось из похода. Дионисия было далеко видно на лошади, и его в этом войске привыкли слушаться беспрекословно; шагая рядом с конем македонца, Ангел повел гостей вперед.
Он вел их к тому дому, который давным-давно снимал Леонард; места и еды всем хватит – Ангел уже видел это. Из греков уезжало на битву немного, а вернулось гораздо меньше. Теперь, конечно, в этот дом заселились другие арендаторы; но добиться того, чтобы македонцев и их товарищей пустили на постой, нетрудно. Пусть эти люди истощены, но все они при оружии и прошли с этим оружием через смерть.
Когда Дионисий поел и вымылся с дороги, он сразу же лег спать – и проспал часов десять, не меньше. После этого военачальник заметно ожил и даже начал испытывать искреннюю благодарность к Леонардовым грекам, предоставившим ему кров. До сих пор Дионисий не мог думать ни о чем, кроме смертельной опасности, своих товарищах и пути назад, в Италию: как неспособны были думать о чем-либо другом и его товарищи.
- Пошлите к моей жене и дочерям, - попросил македонец прежде всего, когда его мысли наконец обратились к дому. – Скажите им, что я жив!
- Непременно, господин, - горячо пообещал Ангел. – А кто еще из ваших вернулся?
Дионисий быстро взглянул на него; и он понял, что спросил совсем не так, как следует.
Разве тот, кто никогда не воевал, поймет того, кто столько раз прошел через смерть?
Дионисий опустил глаза, помолчал несколько мгновений - потом сказал:
- Со мной был племянник – Дарий… очень храбрый воин, несмотря на молодость и неопытность. Он погиб.
Дионисий прервался, какая-то судорога прошла по его лицу – и македонец прибавил:
- Дарий погиб на земле Македонии, через которую мы шли, и мы погребли его там… предали огню, как хоронили воинов во времена славы нашей родины. С ним мы сожгли тела врагов.
Ангел, пораженный и полный сочувствия, хотел пожелать, чтобы Господь упокоил душу Дария, но слова застряли в его горле. Звезда Македонии закатилась задолго до того, как на этой земле воссияла слава Господа.
Он сказал, что сейчас же пошлет кого-нибудь в имение Аммониев; о том, что Дионисий пережил на востоке, Ангел больше не смел спрашивать. Дионисий теперь был спокоен, и рассказал, как проехать к его дому. А дорога до Рима и Анцио была Леонардовым людям уже знакома.
Кассандра, счастливая возвращением мужа, почти не плакала из-за смерти Дария. Она любила племянника, но главенствовала в ее сердце собственная семья… человеческое сердце не может вместить всего, только малую часть предназначенной ему боли.
Феодора еще не знала о возвращении македонцев… или уже знала? Скорее всего, комесову жену люди Леонарда оповестили одновременно с Кассандрой, - и скифская пленница одна плакала сейчас о своем муже. Пусть плачет одна... ей не место теперь в доме Аммониев.
Дионисий глухим и утомленным, но спокойным голосом рассказал семье подробности похода – и подробности смерти Дария.
Итальянцы ночью подплыли к Стамбулу, и там их встретили огнем турецкие корабли; но цепь, замыкающая Золотой Рог, была отомкнута, и они прорвались к Городу с небольшими потерями. Часть армии стала под его стенами, а другая завязала бой на море. Но морем туркам было далеко и долго посылать за помощью, и градоначальник приказал дать врагу бой под Феодосиевыми стенами. Однако в городе содержалось мало войска, и турки были плохо готовы отражать натиск; первый бой итальянцы выиграли, нанеся туркам большой урон. Город был окружен, под стенами раскидали горящую солому, препятствуя выйти хоть кому-нибудь. Ибрахим-паша понял, что итальянские безумцы скоро перебьют защитников Стамбула и могут ворваться внутрь, пусть и ненадолго… но вверенный ему Город может пострадать слишком сильно, прежде чем подойдет помощь. Паша начал переговоры…
- Сфорца выторговал лучшие условия для итальянских купцов – и лучшую охрану морского пути из Италии в Византию, - сказал Дионисий. – Потом выступил я: я говорил с пашой от имени греков… и потребовал отдать казну и сокровища императоров, которые градоначальник до сих пор прятал у себя. Большая часть добычи осела в его сундуках и сундуках других султанских чиновников. Те из турок, - воинов султана, - которые проливали кровь, грудью бросаясь на стены Константинополя, получили лишь малую часть от награбленного… как всегда и бывает.
Дионисий грустно посмеялся.
- Ну и как – вам отдали, что вы потребовали? – воскликнула Кассандра, которую в рассказе мужа больше всего заинтересовало, сколько македонцы выиграли в этих переговорах.
Дионисий кивнул.
- Нам открыли одни из ворот и вывезли несколько подвод с золотом и драгоценными вещами… думаю, что это ничтожная часть того, что хранится в дворцовых и храмовых сокровищницах, но проверить мы не могли и не успели. Паша все-таки получил подкрепление – мы хотели отступить, но поздно; была большая сеча, и Дарий весьма отличился в ней.
Военачальник улыбнулся с гордостью, которой мог больше не сдерживать. Дарий уже не услышит, если его перехвалят: как случается, когда слишком превозносят мертвых в сравнении с живыми…
- Мы прорвались и ушли на север и запад – часть воинов осталась на кораблях, - продолжил Дионисий. – Мы не могли уйти морем, нас отрезали от берега, но начальники флота увели корабли от врага, и остальные высадились и присоединились к нам позднее.
Македонец замолчал, как будто ему нечего было прибавить, – да и что прибавить? Сколько человек они потеряли, сколько товарищей умерло от ран, болезней и недостач? Описание военных будней может только нагнать уныние и страх на женщин и мирных людей; их стремятся забыть и те, кто живет войной. Ибо все эти будни проживаются ради подвигов, ради побед и мира, который стоит до следующей брани!
А ради славы немногих бесславно – и даже без вести погибают сотни и тысячи…
- А как погиб Дарий? – спросила Кассандра после долгого молчания.
- Нелепо, - мрачно ответил Дионисий. – В него метнули копье из-за дерева: нас часто атаковали из засады… Дарий проезжал мимо, и его поразили в спину. Я ничего не мог сделать.
Голос Дионисия задрожал.
- Мы погнались за убийцами, и настигли нескольких… это были греки, - усмехнулся военачальник. – Всех убили на месте. Их сложили на погребальный костер, в ногах у моего племянника, вместе с их оружием.
Кассандра опустила голову, пряча от мужа слезы. Греки… это были греки. Во имя Византии, в память об империи одни греки опять убивали других…
- А как вы нашли комеса? – спросила Кассандра.
Леонарда они снова лишились – и если Дионисий расскажет, как критянин был найден, хуже уже не будет.
Тут Дионисий вдруг повеселел.
- Нам повезло, жена, - сказал он. – Мы рассылали шпионов, продвигаясь на запад… и в конце концов узнали, что комес в плену в Болгарии. Ты ведь знаешь, что это давно турецкая земля. Захватили его болгары, христиане, - и торговаться хотели с самим Стамбулом, за вольности для Болгарии!
Дионисий помолчал.
- Не знаю, почему в Стамбуле до сих пор не знали о нем, - может быть, поссорились князья или священники… но мы выкупили его, отдав болгарам часть золота, которое получили от паши. Можно считать, что мы помогли братьям-христианам.
Смуглый грозный македонец улыбнулся с таким выражением, что Кассандра поняла – ее муж с великим удовольствием прошелся бы по Болгарии с императорскими легионами, как когда-то поступали с дикими болгарскими каганами василевсы, владыки мира. Да что у этого народца есть своего? Болгары были такие же темные варвары, как и северные тавроскифы, сородичи Феодоры, пока греки не научили их своим наукам!
- Мы не дошли до Эдирне – сил не хватило, и стало слишком опасно пробиваться, - закончил Дионисий. – Мы вернулись назад, потеряв еще много воинов; часто останавливались, пережидая вражеские засады… долго рассказывать, да и не стоит.
Он улыбнулся жене.
- Сколько нас уцелело, сели на корабли, которые наши флотоводцы увели на запад, следуя за нами. Мы добыли немало, но потеряли больше.
Кассандра встала с места и, взяв голову мужа в ладони, поцеловала его в лоб.
- Иди отдыхай… иди, - сказала она со слезами.
Дионисий встал и, склонившись к жене, поцеловал ее в губы, не встречаясь с ней взглядом. Потом молча ушел наверх, отдыхать.
Когда кончился декабрь, Леонарда уже причислили к мертвым – и Феодора сидела со своими детьми за рождественским столом, точно на поминках. Услышав, что македонцы нашли комеса и снова потеряли, она едва не возненавидела их; московитка и подумать не могла, что так больно будет пережить потерю, с которой она смирилась еще до возвращения итальянского войска.
Лишиться комеса Флатанелоса для них всех было как потерять самую дорогую мечту – ту самую мечту, которая наполняет смыслом и счастьем повседневную жизнь и житейские страдания.
Они прожили в таком горе весь январь и февраль нового года.
А пятого марта 1461 года Леонардовы греки, для которых Венеция давно стала домом, увидели, как приближается одинокая хеландия – старое, но еще крепкое судно, сделанное из северного дуба…
Это греческое судно показалось наблюдателям знакомым – а когда прочитали его название, "Клеопатра", трое греков сразу вспомнили корабль и в возбуждении напомнили остальным. В Венецию вернулся патрикий Нотарас, который все эти годы пропадал неизвестно где и по котором мало кто скучал!
Несмотря ни на что, греки были немало изумлены, когда этот совсем не героический человек сошел на берег, улыбнувшись им и приветственно подняв руку: точно император в цирке перед народом.
Но не это было самым удивительным.
Вслед за патрикием Нотарасом на берег с борта "Клеопатры" спустился Леонард Флатанелос.
Спрыгнувшего на берег Сфорца, в черном бархатном плаще, в отделанной куньим мехом шапке, узнали сразу. Когда герцог поднял руку, чтобы откинуть с лица прилипшие темные волосы, блеснул рыцарский доспех – наручи, отделанные золотом.
- Герцог! Вы живы, слава богу! – воскликнул один из встречающих. Сфорца быстро повернулся, нахмурил брови… и узнал грека. Целая толпа греков высыпала, чтобы встречать его: людей довольно потрепанного вида.
Могущественный итальянец улыбнулся, посмотрев поверх их голов. Потом опять взглянул на того грека, который первым обратился к нему.
- Да, я жив, - сказал он. – А кто ты такой? Я тебя знаю?
Грек отступил и поклонился; вместе с почтительностью в нем проявилось нетерпение и достоинство, скрытое до поры до времени.
- Я служу Леонарду Флатанелосу, и мой господин оставил меня здесь для наблюдения за морем, - сказал он. – Должны ли мы понимать… что вы вернулись с победой? И где наш комес?
Сфорца вздохнул и положил греку на плечо свою руку воина; и вдруг тот понял, что итальянец едва жив от усталости. Как и те, кто приплыл с ним.
- Комеса с нами нет, - проговорил герцог: у него уже не было сил улыбаться и едва хватало сил отвечать. – Мы нашли Леонарда Флатанелоса, и он плыл с нами домой… но в пути нас разделила буря. Мы потеряли несколько кораблей, часть была отнесена далеко… это было у греческих берегов, где осенью очень неспокойно.
Грек отступил. Он ошеломленно взглянул на товарищей, и потом они все вместе снова воззрились на Сфорца, не решаясь спрашивать дальше – и не зная, что спрашивать. Леонардовы греки видели, как итальянцы сходят на берег, – их было много, корабли были полны и даже переполнены; но, без сомнений, в эту роковую для Мистры и всей Византии весну уплыло на восток гораздо больше.
- Но где же наши? Где все критяне… где македонцы? – спросили наконец герцога.
Сфорца взглянул на греков и отвернулся.
- Многие остались там, в Турции и в Византии, - сказал он. – Мы потеряли больше половины солдат.
Казалось, Сфорца не делает различия между своими и итальянцами.
Тут герцогу подвели его коня, которого только что спустили по сходням; ему помогли сесть на лошадь. Казалось, герцогу уже все безразлично – высокая особа думала только о еде и постели, каких бы то ни было.
Сфорца уехал, а греки так и остались, охваченные скорбью, ужасом… и возмущением. Им сейчас казалось, что их сородичей итальянцы затерли, бросили и предали; тем более, что никто из воинов и моряков, которые сейчас разгружались, шумели, разговаривали, уже не обращал внимания на ромеев. И греков среди итальянцев не было видно.
Тот, кто первым заговорил с герцогом, опять пробился вперед.
- Где наши? – воскликнул он.
И тут наконец появился человек, при виде которого у грека вырвался радостный крик. Он растолкал измученных дорогой людей, не обращая внимания на их оружие, и подбежал к тому, которого узнал.
- Господин! – воскликнул он.
Дионисий Аммоний, потрепанный и постаревший, уцелевший в неведомых бурях и сражениях, повернулся к критянину. Македонец улыбнулся так же белозубо, как раньше, улыбка очень украсила его… потом перестал улыбаться и сделался очень усталым и безразличным, подобно Сфорца.
- Я - Ангел, - ударив себя в грудь, торопливо проговорил Леонардов грек: как будто, назвав свое святое имя, он мог получить долгожданный отклик. – Где комес Флатанелос, наш господин?
- Мы не знаем, - сказал Дионисий. – Он был с нами, но буря разнесла наши корабли восемнадцать дней назад.
Тут Ангел понял, что добиться ответов от этих людей можно, только дав им еду и отдых.
- Здесь есть еще греки? Идемте с нами, - громко позвал он, махнув рукой: не разбирая чинов и заслуг прибывших греческих воинов. – Идемте, мы о вас позаботимся!
Тут Дионисию, как и герцогу, подвели лошадь; и Ангел немедленно оказался рядом. Он ухватился за стремя старого военачальника, наполовину страшась, наполовину гордясь своей ролью проводника.
Дионисий не возражал; обернувшись, он позвал своих, и венецианские греки наконец увидели, сколько их сородичей вернулось из похода. Дионисия было далеко видно на лошади, и его в этом войске привыкли слушаться беспрекословно; шагая рядом с конем македонца, Ангел повел гостей вперед.
Он вел их к тому дому, который давным-давно снимал Леонард; места и еды всем хватит – Ангел уже видел это. Из греков уезжало на битву немного, а вернулось гораздо меньше. Теперь, конечно, в этот дом заселились другие арендаторы; но добиться того, чтобы македонцев и их товарищей пустили на постой, нетрудно. Пусть эти люди истощены, но все они при оружии и прошли с этим оружием через смерть.
Когда Дионисий поел и вымылся с дороги, он сразу же лег спать – и проспал часов десять, не меньше. После этого военачальник заметно ожил и даже начал испытывать искреннюю благодарность к Леонардовым грекам, предоставившим ему кров. До сих пор Дионисий не мог думать ни о чем, кроме смертельной опасности, своих товарищах и пути назад, в Италию: как неспособны были думать о чем-либо другом и его товарищи.
- Пошлите к моей жене и дочерям, - попросил македонец прежде всего, когда его мысли наконец обратились к дому. – Скажите им, что я жив!
- Непременно, господин, - горячо пообещал Ангел. – А кто еще из ваших вернулся?
Дионисий быстро взглянул на него; и он понял, что спросил совсем не так, как следует.
Разве тот, кто никогда не воевал, поймет того, кто столько раз прошел через смерть?
Дионисий опустил глаза, помолчал несколько мгновений - потом сказал:
- Со мной был племянник – Дарий… очень храбрый воин, несмотря на молодость и неопытность. Он погиб.
Дионисий прервался, какая-то судорога прошла по его лицу – и македонец прибавил:
- Дарий погиб на земле Македонии, через которую мы шли, и мы погребли его там… предали огню, как хоронили воинов во времена славы нашей родины. С ним мы сожгли тела врагов.
Ангел, пораженный и полный сочувствия, хотел пожелать, чтобы Господь упокоил душу Дария, но слова застряли в его горле. Звезда Македонии закатилась задолго до того, как на этой земле воссияла слава Господа.
Он сказал, что сейчас же пошлет кого-нибудь в имение Аммониев; о том, что Дионисий пережил на востоке, Ангел больше не смел спрашивать. Дионисий теперь был спокоен, и рассказал, как проехать к его дому. А дорога до Рима и Анцио была Леонардовым людям уже знакома.
Кассандра, счастливая возвращением мужа, почти не плакала из-за смерти Дария. Она любила племянника, но главенствовала в ее сердце собственная семья… человеческое сердце не может вместить всего, только малую часть предназначенной ему боли.
Феодора еще не знала о возвращении македонцев… или уже знала? Скорее всего, комесову жену люди Леонарда оповестили одновременно с Кассандрой, - и скифская пленница одна плакала сейчас о своем муже. Пусть плачет одна... ей не место теперь в доме Аммониев.
Дионисий глухим и утомленным, но спокойным голосом рассказал семье подробности похода – и подробности смерти Дария.
Итальянцы ночью подплыли к Стамбулу, и там их встретили огнем турецкие корабли; но цепь, замыкающая Золотой Рог, была отомкнута, и они прорвались к Городу с небольшими потерями. Часть армии стала под его стенами, а другая завязала бой на море. Но морем туркам было далеко и долго посылать за помощью, и градоначальник приказал дать врагу бой под Феодосиевыми стенами. Однако в городе содержалось мало войска, и турки были плохо готовы отражать натиск; первый бой итальянцы выиграли, нанеся туркам большой урон. Город был окружен, под стенами раскидали горящую солому, препятствуя выйти хоть кому-нибудь. Ибрахим-паша понял, что итальянские безумцы скоро перебьют защитников Стамбула и могут ворваться внутрь, пусть и ненадолго… но вверенный ему Город может пострадать слишком сильно, прежде чем подойдет помощь. Паша начал переговоры…
- Сфорца выторговал лучшие условия для итальянских купцов – и лучшую охрану морского пути из Италии в Византию, - сказал Дионисий. – Потом выступил я: я говорил с пашой от имени греков… и потребовал отдать казну и сокровища императоров, которые градоначальник до сих пор прятал у себя. Большая часть добычи осела в его сундуках и сундуках других султанских чиновников. Те из турок, - воинов султана, - которые проливали кровь, грудью бросаясь на стены Константинополя, получили лишь малую часть от награбленного… как всегда и бывает.
Дионисий грустно посмеялся.
- Ну и как – вам отдали, что вы потребовали? – воскликнула Кассандра, которую в рассказе мужа больше всего заинтересовало, сколько македонцы выиграли в этих переговорах.
Дионисий кивнул.
- Нам открыли одни из ворот и вывезли несколько подвод с золотом и драгоценными вещами… думаю, что это ничтожная часть того, что хранится в дворцовых и храмовых сокровищницах, но проверить мы не могли и не успели. Паша все-таки получил подкрепление – мы хотели отступить, но поздно; была большая сеча, и Дарий весьма отличился в ней.
Военачальник улыбнулся с гордостью, которой мог больше не сдерживать. Дарий уже не услышит, если его перехвалят: как случается, когда слишком превозносят мертвых в сравнении с живыми…
- Мы прорвались и ушли на север и запад – часть воинов осталась на кораблях, - продолжил Дионисий. – Мы не могли уйти морем, нас отрезали от берега, но начальники флота увели корабли от врага, и остальные высадились и присоединились к нам позднее.
Македонец замолчал, как будто ему нечего было прибавить, – да и что прибавить? Сколько человек они потеряли, сколько товарищей умерло от ран, болезней и недостач? Описание военных будней может только нагнать уныние и страх на женщин и мирных людей; их стремятся забыть и те, кто живет войной. Ибо все эти будни проживаются ради подвигов, ради побед и мира, который стоит до следующей брани!
А ради славы немногих бесславно – и даже без вести погибают сотни и тысячи…
- А как погиб Дарий? – спросила Кассандра после долгого молчания.
- Нелепо, - мрачно ответил Дионисий. – В него метнули копье из-за дерева: нас часто атаковали из засады… Дарий проезжал мимо, и его поразили в спину. Я ничего не мог сделать.
Голос Дионисия задрожал.
- Мы погнались за убийцами, и настигли нескольких… это были греки, - усмехнулся военачальник. – Всех убили на месте. Их сложили на погребальный костер, в ногах у моего племянника, вместе с их оружием.
Кассандра опустила голову, пряча от мужа слезы. Греки… это были греки. Во имя Византии, в память об империи одни греки опять убивали других…
- А как вы нашли комеса? – спросила Кассандра.
Леонарда они снова лишились – и если Дионисий расскажет, как критянин был найден, хуже уже не будет.
Тут Дионисий вдруг повеселел.
- Нам повезло, жена, - сказал он. – Мы рассылали шпионов, продвигаясь на запад… и в конце концов узнали, что комес в плену в Болгарии. Ты ведь знаешь, что это давно турецкая земля. Захватили его болгары, христиане, - и торговаться хотели с самим Стамбулом, за вольности для Болгарии!
Дионисий помолчал.
- Не знаю, почему в Стамбуле до сих пор не знали о нем, - может быть, поссорились князья или священники… но мы выкупили его, отдав болгарам часть золота, которое получили от паши. Можно считать, что мы помогли братьям-христианам.
Смуглый грозный македонец улыбнулся с таким выражением, что Кассандра поняла – ее муж с великим удовольствием прошелся бы по Болгарии с императорскими легионами, как когда-то поступали с дикими болгарскими каганами василевсы, владыки мира. Да что у этого народца есть своего? Болгары были такие же темные варвары, как и северные тавроскифы, сородичи Феодоры, пока греки не научили их своим наукам!
- Мы не дошли до Эдирне – сил не хватило, и стало слишком опасно пробиваться, - закончил Дионисий. – Мы вернулись назад, потеряв еще много воинов; часто останавливались, пережидая вражеские засады… долго рассказывать, да и не стоит.
Он улыбнулся жене.
- Сколько нас уцелело, сели на корабли, которые наши флотоводцы увели на запад, следуя за нами. Мы добыли немало, но потеряли больше.
Кассандра встала с места и, взяв голову мужа в ладони, поцеловала его в лоб.
- Иди отдыхай… иди, - сказала она со слезами.
Дионисий встал и, склонившись к жене, поцеловал ее в губы, не встречаясь с ней взглядом. Потом молча ушел наверх, отдыхать.
Когда кончился декабрь, Леонарда уже причислили к мертвым – и Феодора сидела со своими детьми за рождественским столом, точно на поминках. Услышав, что македонцы нашли комеса и снова потеряли, она едва не возненавидела их; московитка и подумать не могла, что так больно будет пережить потерю, с которой она смирилась еще до возвращения итальянского войска.
Лишиться комеса Флатанелоса для них всех было как потерять самую дорогую мечту – ту самую мечту, которая наполняет смыслом и счастьем повседневную жизнь и житейские страдания.
Они прожили в таком горе весь январь и февраль нового года.
А пятого марта 1461 года Леонардовы греки, для которых Венеция давно стала домом, увидели, как приближается одинокая хеландия – старое, но еще крепкое судно, сделанное из северного дуба…
Это греческое судно показалось наблюдателям знакомым – а когда прочитали его название, "Клеопатра", трое греков сразу вспомнили корабль и в возбуждении напомнили остальным. В Венецию вернулся патрикий Нотарас, который все эти годы пропадал неизвестно где и по котором мало кто скучал!
Несмотря ни на что, греки были немало изумлены, когда этот совсем не героический человек сошел на берег, улыбнувшись им и приветственно подняв руку: точно император в цирке перед народом.
Но не это было самым удивительным.
Вслед за патрикием Нотарасом на берег с борта "Клеопатры" спустился Леонард Флатанелос.
Re: Ставрос
Глава 164
Греки не верили своим глазам: будто им явился выходец с того света. Кое-кто так и подумал и начал креститься при виде прославленного флотоводца, щипать себя за руку; но комес не исчез.
Стоя у сходней, он оглядывал Венецию, точно мираж – фата-моргану, которая только грезится ему.
- Господин!
Тут к нему наконец бросились его люди и верные матросы, не выходившие море с тех пор, как потеряли своего комеса; но все остановились, не решаясь подойти к спасенному близко. Его рассматривали восторженно, испуганно, протягивали руки к его одежде – и не смели коснуться.
- Комес, это и вправду ты? – наконец спросил Ангел: он и здесь оказался в первых рядах, хотя, казалось бы, после рассказа Дионисия и герцога Сфорца должен был бы потерять всякую надежду.
Проникновенные карие глаза обратились на него.
- Да, это я, мой друг, - сказал Леонард. – Я не призрак, не бойся.
И он впервые улыбнулся.
И тут все закричали, засвистели, захлопали в ладоши; матросы бросали в воздух шапки, а те, кто был ближе всего, хватали комеса за плащ, за руки и плечи, ощупывая их. Леонард Флатанелос, несомненно, исхудал, но мускулы героя были, как и прежде, стальными.
Фома Нотарас стоял в стороне: он убрался в сторону, как только началась суета вокруг комеса, и о нем так никто и не вспомнил. Белокурый патрикий щурил глаза не то от солнца, не то в многозначительной и неприятной задумчивости; скрестив руки на груди, он поигрывал бледными пальцами, лежавшими в складках алого с золотом плаща. Сына Александра с ним не было.
Наконец Леонарда позвали в дом, отдохнуть и подкрепиться – его засыпали вопросами, но едва ли дали сказать хотя бы слово в ответ; теперь Ангел, спохватившись, спросил, есть ли у комеса лошадь.
Леонард покачал головой.
- У меня есть, - Фома Нотарас впервые открыл рот.
Все повернулись к нему, и спасенный также. Фома Нотарас выглядел таким же усталым, как Леонард; но близость к комесу и понимание своей роли не то зло, не то радостно бодрила патрикия, будто игристое вино вливалось в жилы.
– Комес, ведь вы не откажетесь проехать со мной по городу? – спросил патрикий, улыбаясь.
Матросы замерли, по рядам прошелестел шепоток… даже самые простодушные среди них давно понимали, какая собака пробежала между этими двоими благородными господами. Много больше того, что они не поделили жену.
- Вы согласны? – повторил Фома Нотарас: думая, может быть, что комес не услышал или притворился.
- Конечно, я согласен, - сказал комес. – Поедемте.
Патрикий перестал улыбаться, как будто не ожидал этого. Но потом так же любезно кивнул своему сопернику и должнику. Повернувшись к кому-то на борту, сказал несколько слов и небрежно махнул рукой.
На доски причала свели красивого белого коня – никто не знал, тот ли это конь, который был раньше у Фомы Нотараса, или уже другой; но греки вспомнили, что патрикий всегда предпочитал белых, заметных лошадей.
Патрикий первым вскочил на лошадь; протянул руку комесу. Ангел подсадил своего господина снизу – тот качался, и по морской привычке, и от усталости. Леонард сел впереди патрикия, как тяжелораненый.
Греки сопроводили Леонарда и его спасителя в тот же дом у моря, стоявший в апельсиновом саду, который в этом году еще не зацвел. Неизвестно, надеялся ли патрикий на то, что их увидят на улицах, - или сам себе не мог сказать, чего хочет; но всадников увидели. На них показывали пальцами, выкрикивали приветствия и просто шумели от изумления, толкаясь и разевая рты. Простой люд был не слишком воспитан, но всегда жаден до зрелищ… и Леонарда до сих пор помнили в Венеции не хуже, чем в его собственной семье.
Наверное, не один венецианец сейчас спросил себя: кто это везет героя на своем коне. Фома Нотарас должен был бы радоваться; но он, поприветствовав людей на пристани, опять словно бы сделался безразличным к их суждению и восхищению. Римский патрикий ехал, будто бы погрузившись в свои мысли, - только иногда посматривая по сторонам, чтобы не задавить кого-нибудь из зевак, которому вдруг взбредет в голову сунуться под копыта. Хотя Леонардовы греки следили за дорогой куда внимательнее обоих господ.
Леонард, вначале тоже безразличный, напротив, приободрился по дороге к дому; его карие глаза оглядывали улицы с беспокойством вождя, долго бывшего в чужих краях. Тут он вдруг почувствовал, как патрикий тронул его за локоть, и обернулся.
- Они забрасывали бы нас цветами, если бы успели приготовиться, - сказал Фома Нотарас, улыбаясь.
Леонард посмотрел на патрикия с каким-то горьким недоумением: казалось, за время пути он успел узнать своего спасителя лучше и не ожидал таких слов.
- Вы этого хотели? – спросил критянин.
Потом комес покачал головой, глядя в скептические серые глаза.
- Нет, не хотели, это дешево для вас... Прошу вас, не отвлекайтесь от дороги.
Патрикий без споров отвернулся и продолжил править лошадью; он нахмурился и за весь путь не сказал больше ни слова.
Устроив гостей, греки наконец смогли расспросить их. Вымывшись и поев, Леонард не стал сразу ложиться спать, как и Фома Нотарас. Они были утомлены гораздо меньше, чем вернувшиеся с войны македонцы… или не могли думать о сне, находясь рядом друг с другом.
- Как же ты спасся, господин? – спросил Ангел комеса. – Ты один спасся?
Леонард взглянул на Фому и улыбнулся.
- Спроси об этом того, кто спас меня, - сказал он. – Вы расскажете, патрикий?
Казалось, Фома Нотарас сперва даже не хотел отвечать – не желал красоваться теперь, хотя шел только к этому; но потом передумал. Он улыбнулся одними губами.
- Я нашел комеса на острове Антигоне, куда отнесло его корабль, - сказал патрикий. – Мы с моими людьми поискали остальных сколько могли… но никого, кроме Леонарда, не обнаружили. Может быть, комес самый выносливый… или самый везучий из своей команды.
Фома Нотарас словно бы искренне сожалел о пропавших критянах. Но о чувствах этого человека никто никогда не мог судить наверняка.
- Я как Одиссей, потерявший всех товарищей, - сказал Леонард: в его карих глазах теперь была невыразимая печаль. – Никогда не думал, что легенды воплощаются в жизнь… так буквально.
- Может быть, ваши товарищи еще живы, - заметил Фома. Их обращение друг к другу на "вы" среди греков, среди матросов Леонарда звучало странно и наигранно… как римская формальность, которую эти двое уговорились блюсти только друг с другом. До поры до времени.
- Все-таки вы не от Сциллы с Харибдой спасались, - патрикий слегка рассмеялся.
Леонард улыбнулся, но печальные глаза не изменили своего выражения. Потом критянин посмотрел на Ангела.
- Как моя Феодора?
Фома Нотарас при этих словах сразу же превратился в мраморную статую, задрапированную в алый плащ. Но на него и его чувства уже опять никто не обращал внимания.
- Моя жена здорова? Что же ты молчишь?..
Леонард приподнялся с места, впиваясь взглядом в Ангела; а тот медлил с ответом, потому что один из всех еще помнил, о чьей жене идет разговор. Наконец Ангел с опозданием кивнул.
- Да, госпожа здорова… Она очень плакала о тебе, господин.
- Бедная… Сейчас же пошлите к ней кого-нибудь! – потребовал Леонард. – Я отправлюсь домой завтра!
Тут он наконец посмотрел на Фому и, покачнувшись, встал с места, расправив широкие плечи.
- Идем, - приказал комес Ангелу: к критянину возвращалась прежняя властность. – Пошли ко мне домой человека, а потом расскажешь мне все!
Они вышли за дверь и прикрыли ее. Фома Нотарас закрыл глаза, прислонившись золотой головой к стене.
- Они хотя бы потрудились выйти, - прошептал патрикий: тихо, но так, что все оставшиеся в комнате услышали.
За дверью долго слышались мужские голоса; собеседники то повышали голос, то, одергивая себя, опять говорили тише.
Когда Леонард и Ангел вернулись, Фома сидел все в такой же позе – откинувшись на стену, закрыв глаза.
Леонард осторожно опустился напротив. Он долго молчал – а потом тронул патрикия за руку. Фома вздрогнул и открыл глаза.
- Благодарю вас, - тихо и серьезно сказал комес.
Фома Нотарас улыбнулся одними губами; потом кивнул.
Когда Леонард Флатанелос подъезжал к дому, Феодора уже ждала его – она ждала его одна, и вышла за ворота одна. Увидев всадника, московитка простерла руки, от одолевших ее чувств не в силах сделать ни шага; слезы побежали по ее щекам.
- Господи!..
Леонард, резко осадив коня, спрыгнул на землю и бросился навстречу. В несколько прыжков одолев расстояние между ними, он схватил жену в объятия и закружил: целуя, зарываясь руками в ее волосы, сжимая и лаская ее всю.
- Любимая… я знал, что ты встретишь меня именно так, - пробормотал Леонард. – Я видел это во снах, столько раз видел тебя, как ты сейчас стоишь, и не мог обнять…
- А я видела… что ты вернешься ко мне именно так, - задыхаясь и плача, ответила Феодора.
Они наконец посмотрели друг другу в глаза.
- Я знала, что ты вернешься ко мне именно так, - повторила московитка без улыбки.
Леонард кивнул; он, конечно, понял, что жена подразумевает, и, как и она, не имел никакого желания сейчас говорить об этом. Не сейчас, когда они только воссоединились.
- Идем домой, - сказала Феодора. – Идем… пусть все на тебя посмотрят!
Они зашли в ворота, и сразу перестали принадлежать друг другу.
Комеса приветствовали долго, бесконечно радостно и бесконечно удивленно; его рвали на все стороны вопросами. Ему показали Энея, который совсем не помнил отца… Леонард удивился и очень огорчился этому. Потом он заметил жене, что их сын стал еще больше похож на Никифора, доместика схол и убитого руками Леонарда родича. Правда, только с лица, и об этом не приходилось печалиться – собой Никифор Флатанелос был хорош; а о будущем характере ребенка пока оставалось только гадать.
Варда сейчас дома не было, но Феодора сказала, что немедленно пошлет за сыном в город.
Потом комеса усадили за стол и заставили праздновать свое спасение – он ел, пил и улыбался всем; хотя сейчас охотнее всего остался бы наедине с женой, только с нею.
Когда они наконец остались вдвоем, они сели рядом на кровать, как когда-то. Феодора положила мужу голову на плечо. Он тихо гладил ее руку.
Они все еще оставались незнакомцами друг для друга… но скоро, если посчастливится, опять срастутся в семью, которую очень непросто будет разорвать.
- Я, конечно, понимаю, почему он спас меня, - печально улыбаясь, тихо произнес Леонард, не глядя на жену. – Чтобы потом иметь возможность говорить мне – напоминать каждому из вас при встрече: посмотрите, чем вы обязаны мне. По гроб жизни… как говорят у вас на Руси.
Феодора встрепенулась.
- Но ведь…
- Я понимаю, любимая, - прервал ее критянин. - И я никогда не забуду, что действительно обязан ему по гроб жизни!
Феодора взяла его под руку, прижимаясь теснее.
- Боже мой, - пробормотала она со слезами. – Ведь это больше не может продолжаться… это должно закончиться! Когда, если не теперь?
Леонард отстранил ее от себя, крепко схватив за плечи.
- Именно сейчас, - сказал он. – Завтра Фома вызывает меня для объяснения… он прибудет сюда. Мы поговорим.
Она ахнула.
- Пока Фома все еще мужчина, пока он все еще храбр… пока никто со стороны еще не знает! – шепотом воскликнула московитка. – Ты понимаешь?
- Лучше, чем кто бы то ни было, - серьезно сказал Леонард.
Феодора медленно отодвинулась от мужа, глядя ему в лицо.
- А Александр? – шепотом спросила она.
- Патрикий все расскажет, - ответил Леонард. – Я ему верю. Напишет на бумаге, и передаст кому-нибудь в имении, - быстро прибавил критянин, предвидя возражения жены.
Феодора опустила глаза, ощущая, что сейчас разрыдается в голос. Разве так женщина должна себя вести с мужчиной, готовя его к смертельному поединку?..
- Послушай, - она вдруг заторопилась. – Милый…
Леонард схватил ее за руку, видя, что она раздевается.
- Нет, - твердо сказал он. – Не сейчас! Только тогда, когда я вернусь!
"Когда ты вернешься… когда ты убьешь своего спасителя, моего законного мужа и отца моего Варда…"
- Опять становиться твоим мужем, только на одну ночь… было бы слишком жестоко, - прошептал критянин, поцеловав ей руку. – Я не возьму тебя сейчас, как бы ни хотел…
Феодора хотела спрыгнуть с кровати, чтобы уступить уставшему мужу всю пышную постель и не искушать его своей близостью; но, конечно, комес не допустил этого и уступил возлюбленной кровать сам. Он даже вышел за дверь, устроившись в соседней комнате.
На другое утро комесу передали, что Фома Нотарас ожидает его за воротами.
Это было слишком рано: раньше, чем критянин ждал, но так даже лучше для всех. Леонард, не простившись ни с кем, - жена еще спала, - надел панцирь, препоясался мечом и вышел за ворота.
Фома Нотарас ждал его один.
Греки не верили своим глазам: будто им явился выходец с того света. Кое-кто так и подумал и начал креститься при виде прославленного флотоводца, щипать себя за руку; но комес не исчез.
Стоя у сходней, он оглядывал Венецию, точно мираж – фата-моргану, которая только грезится ему.
- Господин!
Тут к нему наконец бросились его люди и верные матросы, не выходившие море с тех пор, как потеряли своего комеса; но все остановились, не решаясь подойти к спасенному близко. Его рассматривали восторженно, испуганно, протягивали руки к его одежде – и не смели коснуться.
- Комес, это и вправду ты? – наконец спросил Ангел: он и здесь оказался в первых рядах, хотя, казалось бы, после рассказа Дионисия и герцога Сфорца должен был бы потерять всякую надежду.
Проникновенные карие глаза обратились на него.
- Да, это я, мой друг, - сказал Леонард. – Я не призрак, не бойся.
И он впервые улыбнулся.
И тут все закричали, засвистели, захлопали в ладоши; матросы бросали в воздух шапки, а те, кто был ближе всего, хватали комеса за плащ, за руки и плечи, ощупывая их. Леонард Флатанелос, несомненно, исхудал, но мускулы героя были, как и прежде, стальными.
Фома Нотарас стоял в стороне: он убрался в сторону, как только началась суета вокруг комеса, и о нем так никто и не вспомнил. Белокурый патрикий щурил глаза не то от солнца, не то в многозначительной и неприятной задумчивости; скрестив руки на груди, он поигрывал бледными пальцами, лежавшими в складках алого с золотом плаща. Сына Александра с ним не было.
Наконец Леонарда позвали в дом, отдохнуть и подкрепиться – его засыпали вопросами, но едва ли дали сказать хотя бы слово в ответ; теперь Ангел, спохватившись, спросил, есть ли у комеса лошадь.
Леонард покачал головой.
- У меня есть, - Фома Нотарас впервые открыл рот.
Все повернулись к нему, и спасенный также. Фома Нотарас выглядел таким же усталым, как Леонард; но близость к комесу и понимание своей роли не то зло, не то радостно бодрила патрикия, будто игристое вино вливалось в жилы.
– Комес, ведь вы не откажетесь проехать со мной по городу? – спросил патрикий, улыбаясь.
Матросы замерли, по рядам прошелестел шепоток… даже самые простодушные среди них давно понимали, какая собака пробежала между этими двоими благородными господами. Много больше того, что они не поделили жену.
- Вы согласны? – повторил Фома Нотарас: думая, может быть, что комес не услышал или притворился.
- Конечно, я согласен, - сказал комес. – Поедемте.
Патрикий перестал улыбаться, как будто не ожидал этого. Но потом так же любезно кивнул своему сопернику и должнику. Повернувшись к кому-то на борту, сказал несколько слов и небрежно махнул рукой.
На доски причала свели красивого белого коня – никто не знал, тот ли это конь, который был раньше у Фомы Нотараса, или уже другой; но греки вспомнили, что патрикий всегда предпочитал белых, заметных лошадей.
Патрикий первым вскочил на лошадь; протянул руку комесу. Ангел подсадил своего господина снизу – тот качался, и по морской привычке, и от усталости. Леонард сел впереди патрикия, как тяжелораненый.
Греки сопроводили Леонарда и его спасителя в тот же дом у моря, стоявший в апельсиновом саду, который в этом году еще не зацвел. Неизвестно, надеялся ли патрикий на то, что их увидят на улицах, - или сам себе не мог сказать, чего хочет; но всадников увидели. На них показывали пальцами, выкрикивали приветствия и просто шумели от изумления, толкаясь и разевая рты. Простой люд был не слишком воспитан, но всегда жаден до зрелищ… и Леонарда до сих пор помнили в Венеции не хуже, чем в его собственной семье.
Наверное, не один венецианец сейчас спросил себя: кто это везет героя на своем коне. Фома Нотарас должен был бы радоваться; но он, поприветствовав людей на пристани, опять словно бы сделался безразличным к их суждению и восхищению. Римский патрикий ехал, будто бы погрузившись в свои мысли, - только иногда посматривая по сторонам, чтобы не задавить кого-нибудь из зевак, которому вдруг взбредет в голову сунуться под копыта. Хотя Леонардовы греки следили за дорогой куда внимательнее обоих господ.
Леонард, вначале тоже безразличный, напротив, приободрился по дороге к дому; его карие глаза оглядывали улицы с беспокойством вождя, долго бывшего в чужих краях. Тут он вдруг почувствовал, как патрикий тронул его за локоть, и обернулся.
- Они забрасывали бы нас цветами, если бы успели приготовиться, - сказал Фома Нотарас, улыбаясь.
Леонард посмотрел на патрикия с каким-то горьким недоумением: казалось, за время пути он успел узнать своего спасителя лучше и не ожидал таких слов.
- Вы этого хотели? – спросил критянин.
Потом комес покачал головой, глядя в скептические серые глаза.
- Нет, не хотели, это дешево для вас... Прошу вас, не отвлекайтесь от дороги.
Патрикий без споров отвернулся и продолжил править лошадью; он нахмурился и за весь путь не сказал больше ни слова.
Устроив гостей, греки наконец смогли расспросить их. Вымывшись и поев, Леонард не стал сразу ложиться спать, как и Фома Нотарас. Они были утомлены гораздо меньше, чем вернувшиеся с войны македонцы… или не могли думать о сне, находясь рядом друг с другом.
- Как же ты спасся, господин? – спросил Ангел комеса. – Ты один спасся?
Леонард взглянул на Фому и улыбнулся.
- Спроси об этом того, кто спас меня, - сказал он. – Вы расскажете, патрикий?
Казалось, Фома Нотарас сперва даже не хотел отвечать – не желал красоваться теперь, хотя шел только к этому; но потом передумал. Он улыбнулся одними губами.
- Я нашел комеса на острове Антигоне, куда отнесло его корабль, - сказал патрикий. – Мы с моими людьми поискали остальных сколько могли… но никого, кроме Леонарда, не обнаружили. Может быть, комес самый выносливый… или самый везучий из своей команды.
Фома Нотарас словно бы искренне сожалел о пропавших критянах. Но о чувствах этого человека никто никогда не мог судить наверняка.
- Я как Одиссей, потерявший всех товарищей, - сказал Леонард: в его карих глазах теперь была невыразимая печаль. – Никогда не думал, что легенды воплощаются в жизнь… так буквально.
- Может быть, ваши товарищи еще живы, - заметил Фома. Их обращение друг к другу на "вы" среди греков, среди матросов Леонарда звучало странно и наигранно… как римская формальность, которую эти двое уговорились блюсти только друг с другом. До поры до времени.
- Все-таки вы не от Сциллы с Харибдой спасались, - патрикий слегка рассмеялся.
Леонард улыбнулся, но печальные глаза не изменили своего выражения. Потом критянин посмотрел на Ангела.
- Как моя Феодора?
Фома Нотарас при этих словах сразу же превратился в мраморную статую, задрапированную в алый плащ. Но на него и его чувства уже опять никто не обращал внимания.
- Моя жена здорова? Что же ты молчишь?..
Леонард приподнялся с места, впиваясь взглядом в Ангела; а тот медлил с ответом, потому что один из всех еще помнил, о чьей жене идет разговор. Наконец Ангел с опозданием кивнул.
- Да, госпожа здорова… Она очень плакала о тебе, господин.
- Бедная… Сейчас же пошлите к ней кого-нибудь! – потребовал Леонард. – Я отправлюсь домой завтра!
Тут он наконец посмотрел на Фому и, покачнувшись, встал с места, расправив широкие плечи.
- Идем, - приказал комес Ангелу: к критянину возвращалась прежняя властность. – Пошли ко мне домой человека, а потом расскажешь мне все!
Они вышли за дверь и прикрыли ее. Фома Нотарас закрыл глаза, прислонившись золотой головой к стене.
- Они хотя бы потрудились выйти, - прошептал патрикий: тихо, но так, что все оставшиеся в комнате услышали.
За дверью долго слышались мужские голоса; собеседники то повышали голос, то, одергивая себя, опять говорили тише.
Когда Леонард и Ангел вернулись, Фома сидел все в такой же позе – откинувшись на стену, закрыв глаза.
Леонард осторожно опустился напротив. Он долго молчал – а потом тронул патрикия за руку. Фома вздрогнул и открыл глаза.
- Благодарю вас, - тихо и серьезно сказал комес.
Фома Нотарас улыбнулся одними губами; потом кивнул.
Когда Леонард Флатанелос подъезжал к дому, Феодора уже ждала его – она ждала его одна, и вышла за ворота одна. Увидев всадника, московитка простерла руки, от одолевших ее чувств не в силах сделать ни шага; слезы побежали по ее щекам.
- Господи!..
Леонард, резко осадив коня, спрыгнул на землю и бросился навстречу. В несколько прыжков одолев расстояние между ними, он схватил жену в объятия и закружил: целуя, зарываясь руками в ее волосы, сжимая и лаская ее всю.
- Любимая… я знал, что ты встретишь меня именно так, - пробормотал Леонард. – Я видел это во снах, столько раз видел тебя, как ты сейчас стоишь, и не мог обнять…
- А я видела… что ты вернешься ко мне именно так, - задыхаясь и плача, ответила Феодора.
Они наконец посмотрели друг другу в глаза.
- Я знала, что ты вернешься ко мне именно так, - повторила московитка без улыбки.
Леонард кивнул; он, конечно, понял, что жена подразумевает, и, как и она, не имел никакого желания сейчас говорить об этом. Не сейчас, когда они только воссоединились.
- Идем домой, - сказала Феодора. – Идем… пусть все на тебя посмотрят!
Они зашли в ворота, и сразу перестали принадлежать друг другу.
Комеса приветствовали долго, бесконечно радостно и бесконечно удивленно; его рвали на все стороны вопросами. Ему показали Энея, который совсем не помнил отца… Леонард удивился и очень огорчился этому. Потом он заметил жене, что их сын стал еще больше похож на Никифора, доместика схол и убитого руками Леонарда родича. Правда, только с лица, и об этом не приходилось печалиться – собой Никифор Флатанелос был хорош; а о будущем характере ребенка пока оставалось только гадать.
Варда сейчас дома не было, но Феодора сказала, что немедленно пошлет за сыном в город.
Потом комеса усадили за стол и заставили праздновать свое спасение – он ел, пил и улыбался всем; хотя сейчас охотнее всего остался бы наедине с женой, только с нею.
Когда они наконец остались вдвоем, они сели рядом на кровать, как когда-то. Феодора положила мужу голову на плечо. Он тихо гладил ее руку.
Они все еще оставались незнакомцами друг для друга… но скоро, если посчастливится, опять срастутся в семью, которую очень непросто будет разорвать.
- Я, конечно, понимаю, почему он спас меня, - печально улыбаясь, тихо произнес Леонард, не глядя на жену. – Чтобы потом иметь возможность говорить мне – напоминать каждому из вас при встрече: посмотрите, чем вы обязаны мне. По гроб жизни… как говорят у вас на Руси.
Феодора встрепенулась.
- Но ведь…
- Я понимаю, любимая, - прервал ее критянин. - И я никогда не забуду, что действительно обязан ему по гроб жизни!
Феодора взяла его под руку, прижимаясь теснее.
- Боже мой, - пробормотала она со слезами. – Ведь это больше не может продолжаться… это должно закончиться! Когда, если не теперь?
Леонард отстранил ее от себя, крепко схватив за плечи.
- Именно сейчас, - сказал он. – Завтра Фома вызывает меня для объяснения… он прибудет сюда. Мы поговорим.
Она ахнула.
- Пока Фома все еще мужчина, пока он все еще храбр… пока никто со стороны еще не знает! – шепотом воскликнула московитка. – Ты понимаешь?
- Лучше, чем кто бы то ни было, - серьезно сказал Леонард.
Феодора медленно отодвинулась от мужа, глядя ему в лицо.
- А Александр? – шепотом спросила она.
- Патрикий все расскажет, - ответил Леонард. – Я ему верю. Напишет на бумаге, и передаст кому-нибудь в имении, - быстро прибавил критянин, предвидя возражения жены.
Феодора опустила глаза, ощущая, что сейчас разрыдается в голос. Разве так женщина должна себя вести с мужчиной, готовя его к смертельному поединку?..
- Послушай, - она вдруг заторопилась. – Милый…
Леонард схватил ее за руку, видя, что она раздевается.
- Нет, - твердо сказал он. – Не сейчас! Только тогда, когда я вернусь!
"Когда ты вернешься… когда ты убьешь своего спасителя, моего законного мужа и отца моего Варда…"
- Опять становиться твоим мужем, только на одну ночь… было бы слишком жестоко, - прошептал критянин, поцеловав ей руку. – Я не возьму тебя сейчас, как бы ни хотел…
Феодора хотела спрыгнуть с кровати, чтобы уступить уставшему мужу всю пышную постель и не искушать его своей близостью; но, конечно, комес не допустил этого и уступил возлюбленной кровать сам. Он даже вышел за дверь, устроившись в соседней комнате.
На другое утро комесу передали, что Фома Нотарас ожидает его за воротами.
Это было слишком рано: раньше, чем критянин ждал, но так даже лучше для всех. Леонард, не простившись ни с кем, - жена еще спала, - надел панцирь, препоясался мечом и вышел за ворота.
Фома Нотарас ждал его один.
Re: Ставрос
Глава 165
Он был полностью готов к битве – при мече, в светлом панцире, изукрашенном белым серебром; но без шлема, чтобы совершенно ясно видеть и слышать противника. Губы патрикия при виде Леонарда Флатанелоса тронула слабая улыбка: хотя он не двинулся с места.
- Я вижу, ты тоже без шлема, - сказал Фома Нотарас. Ветер слегка шевелил его золотые волосы.
Леонард кивнул, глядя на Фому без гнева и без страха… серьезно и сочувственно.
- Ты хочешь что-то сказать мне? Говори, - предложил он.
Фома качнул головой.
- Сказать – нет… между нами все давно сказано.
Он вдруг сунул руку под широкий наплечник и достал сложенную вчетверо бумагу.
- Вот здесь все, что касается Александра – и других дел, важных для Феодоры и моих детей. Я сам отдам, не нужно никого звать!
Фома вскинул руку, останавливая Леонарда, потом подошел к воротам и бросил записку внутрь, просунув через решетку.
- Теперь ее найдут и прочитают, когда придут за трупом… или двумя, - Фома слегка рассмеялся.
- Трупом?
Леонард все еще не доставал оружия: может быть, надеялся, что до этого все-таки не дойдет.
- Нужно ли это убийство? Разве мало наши близкие вынесли? – спросил критянин. – А твоя жена?
- Моя жена, - тихо пробормотал патрикий. – Мои близкие… кто угодно, только не я!
Его губы дернулись.
- Как же мне тебя жаль, - произнес Леонард.
Он смотрел на патрикия так же, как когда-то – на заточенного в темницу Никифора Флатанелоса, перед тем, как убить его.
Фома прикрыл глаза рукой.
- Тебе меня жаль… и им всем, - сказал он с необыкновенным отвращением. – Даже теперь, после всего, в эту минуту… тебе меня только жаль!..
- Нет, - быстро возразил Леонард: он переступил с ноги на ногу и взялся за рукоять меча, но потом отпустил ее. – Я понимаю, скольким обязан тебе… и Феодора, будь уверен, понимает!
Патрикий кивнул.
- Она понимает, но для нее ты – навсегда герой, а я – только трус и себялюбец, - усмехнулся он. – Она навсегда запомнила меня таким, а тебя другим! Ты ведь знаешь, - сказал Фома с необыкновенным жаром. – Сколько на свете людей трусливее меня, сколько людей бездарных, сколько тех, кому безразлично все, кроме скотства! А разве я не служил вам эти годы, не требуя даже малой благодарности? И все же для вас всех я остаюсь только трусом и помехой в ваших делах!..
- Мы не… - начал Леонард; но тут патрикий выхватил меч из ножен и атаковал его. Он бросился на критянина так стремительно, словно прорывал заслон собственного страха; а потом для обоих мужчин не осталось ничего, кроме ярости и радости битвы. Фома Нотарас сражался хорошо, нападая, закрываясь, отступая в смертельном танце, которым наслаждались в цирках римские граждане, сладострастно волнуемые древними легендами, воплощавшимися в жизнь на арене. Несколько раз клинки встретились, удары были отражены с равной силой; меч патрикия скользнул по щиту Леонарда, потом меч критянина отколол край щита Фомы. А потом меч Фомы полоснул Леонарда по ноге… по незащищенному панцирем месту выше колена: именно там, где его когда-то ударил Валент Аммоний.
Леонард с криком упал на другое колено; Фома бросился на него, целя поверх щита. Он успел нанести удар, обрушив его на плечо врага; но тут Леонард поразил патрикия снизу в живот, под панцирь.
Критянин успел вырвать меч с прежней силой, еще не ощутив, что сам опасно ранен; и тут Фома упал на него всей тяжестью. Леонард обхватил патрикия руками, ощущая, как его заливает горячая кровь, вражеская и своя; вражеская боль и своя… Фома судорожно сжал Леонарда в объятиях и обмяк, уронив голову ему на плечо.
Он был мертв.
Леонард последним усилием столкнул патрикия с себя и ощутил, как боль охватила всю правую руку, плечо и грудь.
"Успеют ли они? Может быть, я сейчас тоже умру… я заслужил?.."
Леонард приподнялся на здоровой руке; его сразу пронзила резкая боль, он упал и потерял сознание.
Очнувшись, комес ощутил, что плечо туго перебинтовано, а правая рука притянута к туловищу. Правая рука, незащищенная щитом…
Тут он все вспомнил. Опять привстал на локте, ощутив, как темнеет в глазах.
- Лежи, - прошептала совсем рядом Феодора. – Лежи, милый…
Она плакала; Леонард улыбнулся.
- Я все еще с тобой, - прошептал он.
Феодора закрыла ему рот ладонью.
- Тебе нельзя разговаривать, - сказала она.
Его правая нога была тоже туго перебинтована; и лежал он в той самой пышной постели, которую уступил жене накануне ночью. Леонард кивнул, закрыв глаза.
Он помнил, что убил патрикия… и понимал, что сейчас Феодора жалеет и любит Фому не меньше, чем его, своего мужа. А то и больше. Одно неосторожное слово – и Феодора может навеки возненавидеть комеса: победителя, которому Фома Нотарас подарил свою жизнь.
Леонард закрыл глаза и попытался задремать: он ничего больше не мог сделать. И даже оскорбительно было бы, если бы он замешался в хлопоты вокруг тела патрикия Нотараса.
Леонард, притворяясь спящим, вскоре впал в настоящее забытье. Несколько раз критянин просыпался и снова засыпал; ему кто-то подносил пить, и он чувствовал, что это женщина, но не жена. Служанка.
Леонард два раза поблагодарил ее, потом силы кончились. У него начался жар, обе раны открылись; тогда в комнату набежали люди. Среди них была и Феодора: вместе с этой служанкой и кем-то из мужчин она меняла Леонарду повязки. Московитка то плакала, то ругалась сквозь слезы.
"Бедная", - подумал Леонард; но заговорить с нею опять не посмел.
Когда ему полегчало, он снова заснул; а открыв глаза, увидел, что комната пуста, а с ним сидит другая служанка, которой он даже не помнил.
- Где госпожа? – спросил Леонард.
Служанка покосилась через плечо, потом показала рукой за дверь.
- Госпожа… там, - девушка закусила губу, посмотрела на Леонарда со страхом - и осуждением. Или же нет?
"Ах, я ведь убил человека… убил благородного господина, и в мирное время, против всякого закона, - подумал Леонард. – Будут ли меня судить? Найдутся ли свидетели этого?"
Когда он смог сесть в постели, у него помутилось в глазах и в голове; несмотря ни на что, комес попытался встать. Он пошатнулся, стиснул зубы от боли в раненой ноге и упал назад.
В другом конце комнаты хлопнула дверь, и вбежала Феодора. Она топнула ногой, остановившись посреди спальни.
- Что ты делаешь? Тебе нельзя вставать!..
Она хотела обхватить мужа поперек пояса и уложить силой; но он уже лег сам, улыбаясь ей. Леонард посмотрел жене в глаза и тут же отвернулся. Не выдержал.
- Где ты была?
Он хотел спросить ласково, но получилось так, точно он выговаривал ей.
Феодора вдруг опустилась на колени у Леонардова одра и уткнулась лицом в постель; взяв его здоровую руку, она сжала ее.
- Мы его похоронили, - прошептала она, плача. – Уже. Даже Вард не увидел, сын ведь еще не успел приехать из Неаполя!..
Московитка подняла голову и словно обожгла Леонарда взглядом.
И комес вдруг понял, чему обрек себя: он победил, убил Фому Нотараса, но на самом деле победил Фома Нотарас. Теперь патрикий навеки герой, навеки священ для своей семьи – для своей жены, для сына, для сестры, божественной Феофано… конечно, Феодора не захочет и не сможет утаить от Феофано, какой подвиг совершил ее брат.
Возлюбленный брат – и лучший любовник и союзник Метаксии Калокир теперь лежит на земле Флатанелосов… и Леонард Флатанелос, убийца патрикия Нотараса, будет до конца своих дней чтить его могилу. Достанет ли человеческих сил это вынести?
Тут вдруг новая мысль посетила критянина.
Он быстро спросил:
- Но как вы его похоронили? Ведь это убийство… власти должны узнать!
Феодора засмеялась, так что слезы опять побежали по ее щекам. Утерла глаза.
- Милый мой, какие власти? Ты в своем уме? Мало нам инквизиции!
Московитка опять взяла его руку, поцеловала ее и приложила к своей щеке. Она глядела на своего мужа, а ему было страшно глядеть на нее.
- Мы его погребли совсем тихо, - прошептала она, сглатывая слезы. – Никто не знает и не узнает. Наши слуги болтать не станут... они себе не враги.
Феодора встала с колен и, склонившись над Леонардом, поцеловала его в лоб.
- Спи спокойно, дорогой.
Тут он не выдержал и стиснул ее руку, пока она не убежала.
- Прости меня! Пожалуйста!
- Я не…
Московитка дернулась, но тщетно: Леонард не пускал. Тогда она взглянула на него.
- Я тебя не виню, - сказала Феодора.
Теперь она смотрела ему в глаза – в первый раз после поединка: супруги посмотрели друг на друга долгим взглядом.
- Я тебя не виню, - Феодора покачала головой, утерев глаза концом косы. – Это все гораздо больше, чем твоя вина, ты сам понимаешь…
Леонард кивнул: счастливый, что жена пытается простить его… хотя до конца простить ни его, ни себя не сможет.
Феодора улыбнулась ему и коснулась его заросшей щеки; Леонард успел поцеловать ее ладонь. Она погладила его взмокшие кудри.
- Тебе принести что-нибудь?
Леонард покачал головой.
- Только сама вернись, - тихо попросил он.
Феофано приехала на другой день. Ее уведомили о случившемся только теперь.
Лакедемонянка зашла к раненому в комнату – Вард уже заходил к отчиму. С мальчиком Леонард заговорить так и не смог; и без этого можно было пока обойтись. А избежать разговора с Феофано – нельзя.
Царица амазонок села к критянину на постель, чуть не придавив раненую ногу; Леонард едва не закричал, но спартанка чувствовала, где он ранен, и не задела его. Она не сводила с него своих огромных глаз, и на ее ярких твердых губах дрожала усмешка.
- С возвращением, комес Флатанелос, - сказала она.
Леонард встрепенулся; хотел было начать оправдываться, как перед женой, но потом понял, что это унизительно – и бесполезно. Феофано все понимает: она всегда все понимала раньше, чем люди успевали это почувствовать.
- Ты знаешь, что Дионисий Аммоний привез с собой Феодору Константинопольскую? – вдруг спросила Феофано.
Леонард мало успел узнать о походе Сфорца; и тем более его изумили эти слова.
- Феодору? Статую?..
Лакедемонянка кивнула.
- Теперь ее установят в Риме, как достояние города – так решил и герцог, и Дионисий, - рассмеялась Феофано. – Она настоящая Елена, и теперь будет искушать весь Рим, наконец приехав сюда… но то, что она Елена, не отменяет того, что ты убийца. Мужчины все убийцы, которые рвут женщин на части.
Она резко встала; и теперь Леонард вскрикнул, когда его израненное тело подбросило на ремнях.
- Ты победил, комес, но… надолго ли?.. Посмотрим!.. - прошептала Феофано, сжав кулаки.
Она стремительно вышла, не дав ему сказать ни слова.
Леонард тихо проклял себя, тоже сжав кулаки: боль в раненой руке вырвала у него стон.
Уймется ли когда-нибудь эта ненависть? Может ли уняться ненависть женщины, которая глубоко любила, - ведь женщины никогда ничего не забывают! А ненависть такого существа, как Феофано?
Когда комес оказался способен ходить, он первым делом отправился взглянуть на могилу Фомы Нотараса: на то место, которое было известно как его могила только посвященным. Он пришел к этому месту, опираясь на руку жены.
Они долго стояли рядом, только вдвоем, не говоря ни слова.
Он был полностью готов к битве – при мече, в светлом панцире, изукрашенном белым серебром; но без шлема, чтобы совершенно ясно видеть и слышать противника. Губы патрикия при виде Леонарда Флатанелоса тронула слабая улыбка: хотя он не двинулся с места.
- Я вижу, ты тоже без шлема, - сказал Фома Нотарас. Ветер слегка шевелил его золотые волосы.
Леонард кивнул, глядя на Фому без гнева и без страха… серьезно и сочувственно.
- Ты хочешь что-то сказать мне? Говори, - предложил он.
Фома качнул головой.
- Сказать – нет… между нами все давно сказано.
Он вдруг сунул руку под широкий наплечник и достал сложенную вчетверо бумагу.
- Вот здесь все, что касается Александра – и других дел, важных для Феодоры и моих детей. Я сам отдам, не нужно никого звать!
Фома вскинул руку, останавливая Леонарда, потом подошел к воротам и бросил записку внутрь, просунув через решетку.
- Теперь ее найдут и прочитают, когда придут за трупом… или двумя, - Фома слегка рассмеялся.
- Трупом?
Леонард все еще не доставал оружия: может быть, надеялся, что до этого все-таки не дойдет.
- Нужно ли это убийство? Разве мало наши близкие вынесли? – спросил критянин. – А твоя жена?
- Моя жена, - тихо пробормотал патрикий. – Мои близкие… кто угодно, только не я!
Его губы дернулись.
- Как же мне тебя жаль, - произнес Леонард.
Он смотрел на патрикия так же, как когда-то – на заточенного в темницу Никифора Флатанелоса, перед тем, как убить его.
Фома прикрыл глаза рукой.
- Тебе меня жаль… и им всем, - сказал он с необыкновенным отвращением. – Даже теперь, после всего, в эту минуту… тебе меня только жаль!..
- Нет, - быстро возразил Леонард: он переступил с ноги на ногу и взялся за рукоять меча, но потом отпустил ее. – Я понимаю, скольким обязан тебе… и Феодора, будь уверен, понимает!
Патрикий кивнул.
- Она понимает, но для нее ты – навсегда герой, а я – только трус и себялюбец, - усмехнулся он. – Она навсегда запомнила меня таким, а тебя другим! Ты ведь знаешь, - сказал Фома с необыкновенным жаром. – Сколько на свете людей трусливее меня, сколько людей бездарных, сколько тех, кому безразлично все, кроме скотства! А разве я не служил вам эти годы, не требуя даже малой благодарности? И все же для вас всех я остаюсь только трусом и помехой в ваших делах!..
- Мы не… - начал Леонард; но тут патрикий выхватил меч из ножен и атаковал его. Он бросился на критянина так стремительно, словно прорывал заслон собственного страха; а потом для обоих мужчин не осталось ничего, кроме ярости и радости битвы. Фома Нотарас сражался хорошо, нападая, закрываясь, отступая в смертельном танце, которым наслаждались в цирках римские граждане, сладострастно волнуемые древними легендами, воплощавшимися в жизнь на арене. Несколько раз клинки встретились, удары были отражены с равной силой; меч патрикия скользнул по щиту Леонарда, потом меч критянина отколол край щита Фомы. А потом меч Фомы полоснул Леонарда по ноге… по незащищенному панцирем месту выше колена: именно там, где его когда-то ударил Валент Аммоний.
Леонард с криком упал на другое колено; Фома бросился на него, целя поверх щита. Он успел нанести удар, обрушив его на плечо врага; но тут Леонард поразил патрикия снизу в живот, под панцирь.
Критянин успел вырвать меч с прежней силой, еще не ощутив, что сам опасно ранен; и тут Фома упал на него всей тяжестью. Леонард обхватил патрикия руками, ощущая, как его заливает горячая кровь, вражеская и своя; вражеская боль и своя… Фома судорожно сжал Леонарда в объятиях и обмяк, уронив голову ему на плечо.
Он был мертв.
Леонард последним усилием столкнул патрикия с себя и ощутил, как боль охватила всю правую руку, плечо и грудь.
"Успеют ли они? Может быть, я сейчас тоже умру… я заслужил?.."
Леонард приподнялся на здоровой руке; его сразу пронзила резкая боль, он упал и потерял сознание.
Очнувшись, комес ощутил, что плечо туго перебинтовано, а правая рука притянута к туловищу. Правая рука, незащищенная щитом…
Тут он все вспомнил. Опять привстал на локте, ощутив, как темнеет в глазах.
- Лежи, - прошептала совсем рядом Феодора. – Лежи, милый…
Она плакала; Леонард улыбнулся.
- Я все еще с тобой, - прошептал он.
Феодора закрыла ему рот ладонью.
- Тебе нельзя разговаривать, - сказала она.
Его правая нога была тоже туго перебинтована; и лежал он в той самой пышной постели, которую уступил жене накануне ночью. Леонард кивнул, закрыв глаза.
Он помнил, что убил патрикия… и понимал, что сейчас Феодора жалеет и любит Фому не меньше, чем его, своего мужа. А то и больше. Одно неосторожное слово – и Феодора может навеки возненавидеть комеса: победителя, которому Фома Нотарас подарил свою жизнь.
Леонард закрыл глаза и попытался задремать: он ничего больше не мог сделать. И даже оскорбительно было бы, если бы он замешался в хлопоты вокруг тела патрикия Нотараса.
Леонард, притворяясь спящим, вскоре впал в настоящее забытье. Несколько раз критянин просыпался и снова засыпал; ему кто-то подносил пить, и он чувствовал, что это женщина, но не жена. Служанка.
Леонард два раза поблагодарил ее, потом силы кончились. У него начался жар, обе раны открылись; тогда в комнату набежали люди. Среди них была и Феодора: вместе с этой служанкой и кем-то из мужчин она меняла Леонарду повязки. Московитка то плакала, то ругалась сквозь слезы.
"Бедная", - подумал Леонард; но заговорить с нею опять не посмел.
Когда ему полегчало, он снова заснул; а открыв глаза, увидел, что комната пуста, а с ним сидит другая служанка, которой он даже не помнил.
- Где госпожа? – спросил Леонард.
Служанка покосилась через плечо, потом показала рукой за дверь.
- Госпожа… там, - девушка закусила губу, посмотрела на Леонарда со страхом - и осуждением. Или же нет?
"Ах, я ведь убил человека… убил благородного господина, и в мирное время, против всякого закона, - подумал Леонард. – Будут ли меня судить? Найдутся ли свидетели этого?"
Когда он смог сесть в постели, у него помутилось в глазах и в голове; несмотря ни на что, комес попытался встать. Он пошатнулся, стиснул зубы от боли в раненой ноге и упал назад.
В другом конце комнаты хлопнула дверь, и вбежала Феодора. Она топнула ногой, остановившись посреди спальни.
- Что ты делаешь? Тебе нельзя вставать!..
Она хотела обхватить мужа поперек пояса и уложить силой; но он уже лег сам, улыбаясь ей. Леонард посмотрел жене в глаза и тут же отвернулся. Не выдержал.
- Где ты была?
Он хотел спросить ласково, но получилось так, точно он выговаривал ей.
Феодора вдруг опустилась на колени у Леонардова одра и уткнулась лицом в постель; взяв его здоровую руку, она сжала ее.
- Мы его похоронили, - прошептала она, плача. – Уже. Даже Вард не увидел, сын ведь еще не успел приехать из Неаполя!..
Московитка подняла голову и словно обожгла Леонарда взглядом.
И комес вдруг понял, чему обрек себя: он победил, убил Фому Нотараса, но на самом деле победил Фома Нотарас. Теперь патрикий навеки герой, навеки священ для своей семьи – для своей жены, для сына, для сестры, божественной Феофано… конечно, Феодора не захочет и не сможет утаить от Феофано, какой подвиг совершил ее брат.
Возлюбленный брат – и лучший любовник и союзник Метаксии Калокир теперь лежит на земле Флатанелосов… и Леонард Флатанелос, убийца патрикия Нотараса, будет до конца своих дней чтить его могилу. Достанет ли человеческих сил это вынести?
Тут вдруг новая мысль посетила критянина.
Он быстро спросил:
- Но как вы его похоронили? Ведь это убийство… власти должны узнать!
Феодора засмеялась, так что слезы опять побежали по ее щекам. Утерла глаза.
- Милый мой, какие власти? Ты в своем уме? Мало нам инквизиции!
Московитка опять взяла его руку, поцеловала ее и приложила к своей щеке. Она глядела на своего мужа, а ему было страшно глядеть на нее.
- Мы его погребли совсем тихо, - прошептала она, сглатывая слезы. – Никто не знает и не узнает. Наши слуги болтать не станут... они себе не враги.
Феодора встала с колен и, склонившись над Леонардом, поцеловала его в лоб.
- Спи спокойно, дорогой.
Тут он не выдержал и стиснул ее руку, пока она не убежала.
- Прости меня! Пожалуйста!
- Я не…
Московитка дернулась, но тщетно: Леонард не пускал. Тогда она взглянула на него.
- Я тебя не виню, - сказала Феодора.
Теперь она смотрела ему в глаза – в первый раз после поединка: супруги посмотрели друг на друга долгим взглядом.
- Я тебя не виню, - Феодора покачала головой, утерев глаза концом косы. – Это все гораздо больше, чем твоя вина, ты сам понимаешь…
Леонард кивнул: счастливый, что жена пытается простить его… хотя до конца простить ни его, ни себя не сможет.
Феодора улыбнулась ему и коснулась его заросшей щеки; Леонард успел поцеловать ее ладонь. Она погладила его взмокшие кудри.
- Тебе принести что-нибудь?
Леонард покачал головой.
- Только сама вернись, - тихо попросил он.
Феофано приехала на другой день. Ее уведомили о случившемся только теперь.
Лакедемонянка зашла к раненому в комнату – Вард уже заходил к отчиму. С мальчиком Леонард заговорить так и не смог; и без этого можно было пока обойтись. А избежать разговора с Феофано – нельзя.
Царица амазонок села к критянину на постель, чуть не придавив раненую ногу; Леонард едва не закричал, но спартанка чувствовала, где он ранен, и не задела его. Она не сводила с него своих огромных глаз, и на ее ярких твердых губах дрожала усмешка.
- С возвращением, комес Флатанелос, - сказала она.
Леонард встрепенулся; хотел было начать оправдываться, как перед женой, но потом понял, что это унизительно – и бесполезно. Феофано все понимает: она всегда все понимала раньше, чем люди успевали это почувствовать.
- Ты знаешь, что Дионисий Аммоний привез с собой Феодору Константинопольскую? – вдруг спросила Феофано.
Леонард мало успел узнать о походе Сфорца; и тем более его изумили эти слова.
- Феодору? Статую?..
Лакедемонянка кивнула.
- Теперь ее установят в Риме, как достояние города – так решил и герцог, и Дионисий, - рассмеялась Феофано. – Она настоящая Елена, и теперь будет искушать весь Рим, наконец приехав сюда… но то, что она Елена, не отменяет того, что ты убийца. Мужчины все убийцы, которые рвут женщин на части.
Она резко встала; и теперь Леонард вскрикнул, когда его израненное тело подбросило на ремнях.
- Ты победил, комес, но… надолго ли?.. Посмотрим!.. - прошептала Феофано, сжав кулаки.
Она стремительно вышла, не дав ему сказать ни слова.
Леонард тихо проклял себя, тоже сжав кулаки: боль в раненой руке вырвала у него стон.
Уймется ли когда-нибудь эта ненависть? Может ли уняться ненависть женщины, которая глубоко любила, - ведь женщины никогда ничего не забывают! А ненависть такого существа, как Феофано?
Когда комес оказался способен ходить, он первым делом отправился взглянуть на могилу Фомы Нотараса: на то место, которое было известно как его могила только посвященным. Он пришел к этому месту, опираясь на руку жены.
Они долго стояли рядом, только вдвоем, не говоря ни слова.
Re: Ставрос
Глава 166
Фома Нотарас не солгал насчет письма к жене: хотя у Леонарда не было возможности проверить, пока не стало поздно. И теперь, - сколько ни проклинай себя, - уже нельзя было ничего узнать сверх того, что патрикий счел нужным сообщить.
Александр, по словам Фомы, воспитывался теперь в Кандии – на Крите, куда патрикий вывез мальчика с приличествующим его происхождению и положению штатом обслуги и где, по его словам, обзавелся имением год назад. Крит был все еще один из самых греческих островов… а о том, откуда Фома Нотарас взял средства на ребенка и на собственное подобающее положению содержание, можно было догадаться. Этот человек шел теми путями, которые прежде него торили самые догадливые и сильные, но пользовался случаем патрикий прекрасно: Фома, вызнавший все, что только можно, о своем сопернике, тоже приложил руку к разграблению критской сокровищницы. Не считая того, что он назанимал и скопил здесь, в Италии.
"Я не могу воспретить тебе забрать сына, - писал мертвый Фома Нотарас своей скифской пленнице и жене, - но я увещеваю тебя со всей силой умирающего духа. Огради моего Александра от воспитания, которое получат от твоего незаконного мужа другие наши дети: считай, что такова моя последняя воля! Я обеспечил Александра вперед на долгие годы, и с ним хорошие воспитатели, которые преданы мне.
Ты скажешь, что Александр будет несчастен без матери? Тысячи греческих детей воспитывались без матерей, в языческое и христианское время, и вполне успешно. Но даже если сын и будет несчастен, я так хочу: Александр – мое последнее произведение на земле, свободное от тех, кто при моей жизни подавил меня. Мой младший сын – тот, в котором я могу выразить свою силу и характер. Если ты хоть сколько-нибудь любила меня, Феодора, ты не откажешь мне.
Наше дитя вырастет, и его ждет самостоятельная жизнь… какую прожил бы я, не стрясись этой страшной войны, если бы я мог свободно развивать свои дарования и не чахнуть вечно в чужой тени. Оставь Александра, Феодора, - и ты, мой убийца, тоже оставь!"
Феодора вздрогнула, в который раз перечитав эти строчки, полустертые из-за грязи и слез. Фома писал почти в полной уверенности, что его убьют… или он ловчил даже перед поединком?
Если бы Фома остался жив, этого письма никто не увидел бы…
Как бы то ни было, можно ли отказать в такой просьбе?
"Впрочем, искать сына вы будете долго, даже если решитесь пойти наперекор моей предсмертной воле, - и люди, которым я доверил Александра, предупреждены о таких попытках: они укроют его. Но надеюсь, что вы ничего подобного не сделаете. В свое время Александру расскажут о его матери – как ты обещала рассказать Варду и Анастасии об их отце.
Забавно: я не раз убеждался в твоей честности, свойственной русским людям, и особенно честности в самых важных делах - но теперь уверен, что из твоих уст наши старшие дети не услышат обо мне ни слова. Конечно, так и лучше. История моей жизни принадлежит к тем, которые все замалчивают, потому что их слишком неудобно рассказывать.
Не знаю, как проститься, - все слова сейчас кажутся неуместными. Что могут сказать друг другу люди, которым предстоят разные вечности – которые стоят на пороге разных вечностей?
Да, я знаю, дорогая, что ты думаешь, будто давно стала нашей, - но зов твоей родины, глас твоей души звучит сейчас еще сильнее, чем раньше. Русские люди так же преданы своему древнему и кровному, как и ромеи, - и хотя вы, русы, взяли нашего бога, мы всегда будем чтить разных богов.
Желаю тебе счастья, где бы ты ни нашла в конце концов свою родину, - и за каким бы супругом ни последовала, ища ее. Или ты следуешь за подругой, а не за мужем?
Помни, что в конце концов, у последней черты, у человека остается только одна любовь и только один вождь.
Фома"
Феодора, закончив перечитывать письмо, поцеловала его и бережно свернула. Сейчас она спрячет его на место и запрет на ключ, чтобы эта память сохранилась как можно дольше.
В ее кедровой шкатулке хранились напоминания обо всех мужчинах, которых она сгубила. Богиня Желань, беспощадная к чужим, карала смертью всех чужестранцев, которые брали над нею власть...
- Только не ее! Пожалуйста! Не ее! – воскликнула Феодора в неожиданном ужасе: русская пленница не знала, к какому божеству обратить свои мольбы, как унять силу разрушения, вложенную в нее неведомо кем.
Какое божество молить, чтобы охранило самую большую ее любовь – Феофано?..
Фома вложил в это письмо еще один плотный пергаментный листок, где рассказал все, что было известно ему о происках инквизиции и ее пособников: патрикий называл имена людей, которых следовало особенно остерегаться в итальянском свете. Они с Леонардом уже не раз обсудили эти предостережения.
Да, Феодора Флатанелос уже могла говорить с убийцей об убитом… и это дело как будто бы удалось скрыть от чужих. И от Варда, который даже не знал, что его настоящий отец находился где-то поблизости и был причастен к возвращению Леонарда: а ранение отчима можно было приписать любой несчастной случайности.
Самый умный и даровитый старший мальчик, любимец Феодоры, остался в неведении.
Но, кажется, о случившемся догадалась девочка, девятилетняя Анастасия, которую мало замечали в той кутерьме, что творилась в доме и в головах хозяев. Феодора, приглядевшись наконец к единственной дочери, поняла, что этот тихий греческий ребенок держит про себя много больше, чем говорит. Анастасия ловко избегала внимания и матери, и Магдалины, - а других близких к ней чутких женщин, кому она могла бы открыться, рядом не было.
Впрочем, Анастасия никому не собиралась вредить… все зло, которое могло совершиться из-за убийства патрикия, совершилось в ее детской душе.
Но даже теперь Феодора радовалась, что дочь жила дома в имении, а не где-нибудь в городе, воспитанницей итальянцев: души итальянских детей омывали реки такого зловонного зла…
Несколько раз горячо поспорив, супруги порешили на том, что Александра следует оставить там, где он есть: Леонард, как и Феодора, склонен был поверить признанию Фомы.
"Когда я буду на Крите в следующий раз, - говорил комес, - я постараюсь разыскать Александра: и если ему живется хорошо и мальчик воспитывается правильно, полагаю, не следует ничего менять в его судьбе. Твоим детям выпало на долю уже слишком много потрясений", - усмехнулся Леонард.
"Не одним только моим", - вздохнула в ответ московитка.
Пока Леонард был в плену, занемог и умер второй муж ключницы, старший над русскими этериотами императора Константина: лет ему было уже под шестьдесят, и в нем заговорили старые раны, начались хвори. Русский дружинник за годы службы в Царьграде бывал много и жестоко порублен. Его малые дети остались с одной только матерью.
Но и трех месяцев не прошло с несчастливого возвращения Леонарда, как Евдокия Хрисанфовна тоже заболела и слегла.
Феодора была сражена: она мало тужила об Ярославе Игоревиче, потому что мало знала этого простого человека, - но с Евдокией Хрисанфовной Феодору, казалось, покидало все, что оставалось у нее от матери Руси.
Евдокия Хрисанфовна после смерти мужа, как и раньше, исправно служила в доме ключницей – но кто приглядывался, замечал, что мать всех московитов не столько в охотку служит, сколько перемогается. Евдокии Хрисанфовне минуло уже полвека, и до сих пор она оставалась здоровой и крепкой: и началась с нею телесная немочь нежданно, как и сухотка души.
- Я бы подольше пожила, не оставляла бы тебя, - говорила она хозяйке, сидевшей у ее изголовья. – Но душа не хочет, рвется… в теле не держится.
Рабыня Желань гладила ее руку, кропила слезами.
- Может, обойдется еще, матушка…
- Ты мне так говорила в первую нашу встречу, когда нас вместе в полон везли, - мягко усмехнулась Евдокия Хрисанфовна. – Забыла, поди? А я помню. Ни тогда нас с тобой наша чаша не минула, ни теперь не минует.
Она долго всматривалась в госпожу нестареющими серыми глазами.
- А ты какая была, такая и осталась.
Потом вдруг приподнялась, будто вновь обретя силы. Феодора бросилась помогать ей; но ключница отстранила ее. Она тяжело дышала, опираясь на подушки, взбитые у нее под спиной.
- Обещай мне… сейчас, как на духу, - проговорила Евдокия Хрисанфовна.
- Что угодно, матушка! - сказала Феодора.
- Что угодно не попрошу, - усмехнулась ключница, - а попрошу одну службу… Отвези моих детей домой, на Русь. Ты это теперь можешь, сама знаешь.
Феодора в растерянности выпрямилась, у нее едва не вырвался вопрос; но Евдокия Хрисанфовна властно подняла руку.
- Нет, не Микитку, его нельзя, - проговорила она. – Старший мой – теперь русский гречин, как ты, госпожа… пошла вам впрок грецкая наука. Ну, добро.
Феодора опустила голову, ощущая такой стыд, точно очутилась сейчас перед давно забытой матерью. Хотя Евдокия Хрисанфовна и не думала упрекать ее.
- А Владимир и Глеб русские, - продолжила ключница, с задумчивой и печальной напевностью, которую Феодора так еще помнила у русских жен. - У младших моих сынов душа домой рвется, как у меня, хотя они дома не видели… Что душе потребно, то Богу потребно. Но мне уже не судьба, а Владимиру и Глебу нельзя тут кончать!
Феодора медленно кивнула.
- Так, может быть, Вард…
- Твой Вард в море пойдет, и моих возьмет? Добро, - улыбнулась Евдокия Хрисанфовна: как будто эта общая судьба детей сейчас расстелилась перед нею скатертью, морской гладью.
Феодора склонилась к руке ключницы и прижалась к ней лбом.
- Слово даю, Евдокия Хрисанфовна. Отвезу твоих детей домой.
- Ну вот и хорошо, - ласково сказала ключница, коснувшись склоненной темноволосой головы. – Утешила ты меня, матушка боярыня.
Она улыбнулась: даже румянец вернулся на щеки.
- А теперь покличь ко мне Микитку, поговорить с ним хочу.
Феодора встала – она боялась: не собиралась ли Евдокия Хрисанфовна сей же час кончиться? Ей всегда казалось, что такие вещие люди, - такие вещие женщины, - до минуточки чувствуют, когда им приходит срок…
Хозяйка быстро вышла и позвала Микитку, который, конечно, сидел в коридоре. При виде ее евнух вскочил.
- Иди к матери, быстро! – приказала Феодора.
Микитка метнулся в комнату матери. Вот напугала его, подумала московитка. Ну а как тут угадаешь – успеешь ли?..
До нее донесся негромкий разговор больной с сыном; она поспешила отойти, чтобы не услышать лишнего.
Микитка вышел от матери через полчаса. Он, против ожиданий, даже улыбался.
- Заснула, - шепотом сказал евнух госпоже. – Просила, чтобы я не пугался… не время ей еще отходить. Я и не боюсь.
Феодора кивнула.
- У тебя сейчас прямо свет на лицо сошел, - сказала она. – Когда такое видишь, всему веришь…
Микитка улыбнулся, и Феодора коснулась губами его чистого лба. Микитка поклонился и ушел.
Проводив евнуха взглядом, госпожа вспомнила, что Мардоний обещал приехать, навестить своего филэ. Да, этих двоих тоже вполне, вполне можно было так называть: пусть они и не разделяли постели. Хороша грецкая наука!
"Хотела бы я знать, что сейчас говорила Микитке мать… предчувствуя скорый конец".
Московитка, не дожидаясь смерти Евдокии Хрисанфовны, поговорила с мужем. Леонард почти не удивился просьбе ключницы – как и ее настойчивости, ее уверенности в своем праве требовать для детей возвращения на родину.
- Мне кажется, недаром меня занесло в Болгарию: чтобы я хорошенько запомнил урок, которого не мог получить нигде больше, - сказал комес. – Вот страна, очень родственная вам, и жестоко страдавшая от ромеев, как теперь страдает от турок… они славные люди, - улыбнулся Леонард. – Я стал бы им другом, если бы не был на таком положении. Но у меня там были друзья… узнав, что у меня русская жена, болгары удивлялись и чувствовали ко мне особенное расположение.
- Так ты поможешь детям Евдокии Хрисанфовны вернуться на Русь? – спросила Феодора.
Леонард кивнул.
- Даю слово… если хочешь, прямо сейчас пойду и поклянусь Евдокии Хрисанфовне.
Феодора улыбнулась, потом качнула головой.
- Нет, милый, не нужно ее тревожить. Она знает, что мы исполним ее волю.
Евдокии Хрисанфовне скоро полегчало, и она провела на ногах еще два месяца. А потом вдруг слегла, быстро ослабела и умерла: в полном сознании, успев проститься со всей своей семьей и со своими господами.
Феодора очень плакала. А Леонард, стоя рядом с женой около свежей могилы, торжественно повторил над этой могилой клятву помочь русским детям в самом для них главном.
Фома Нотарас не солгал насчет письма к жене: хотя у Леонарда не было возможности проверить, пока не стало поздно. И теперь, - сколько ни проклинай себя, - уже нельзя было ничего узнать сверх того, что патрикий счел нужным сообщить.
Александр, по словам Фомы, воспитывался теперь в Кандии – на Крите, куда патрикий вывез мальчика с приличествующим его происхождению и положению штатом обслуги и где, по его словам, обзавелся имением год назад. Крит был все еще один из самых греческих островов… а о том, откуда Фома Нотарас взял средства на ребенка и на собственное подобающее положению содержание, можно было догадаться. Этот человек шел теми путями, которые прежде него торили самые догадливые и сильные, но пользовался случаем патрикий прекрасно: Фома, вызнавший все, что только можно, о своем сопернике, тоже приложил руку к разграблению критской сокровищницы. Не считая того, что он назанимал и скопил здесь, в Италии.
"Я не могу воспретить тебе забрать сына, - писал мертвый Фома Нотарас своей скифской пленнице и жене, - но я увещеваю тебя со всей силой умирающего духа. Огради моего Александра от воспитания, которое получат от твоего незаконного мужа другие наши дети: считай, что такова моя последняя воля! Я обеспечил Александра вперед на долгие годы, и с ним хорошие воспитатели, которые преданы мне.
Ты скажешь, что Александр будет несчастен без матери? Тысячи греческих детей воспитывались без матерей, в языческое и христианское время, и вполне успешно. Но даже если сын и будет несчастен, я так хочу: Александр – мое последнее произведение на земле, свободное от тех, кто при моей жизни подавил меня. Мой младший сын – тот, в котором я могу выразить свою силу и характер. Если ты хоть сколько-нибудь любила меня, Феодора, ты не откажешь мне.
Наше дитя вырастет, и его ждет самостоятельная жизнь… какую прожил бы я, не стрясись этой страшной войны, если бы я мог свободно развивать свои дарования и не чахнуть вечно в чужой тени. Оставь Александра, Феодора, - и ты, мой убийца, тоже оставь!"
Феодора вздрогнула, в который раз перечитав эти строчки, полустертые из-за грязи и слез. Фома писал почти в полной уверенности, что его убьют… или он ловчил даже перед поединком?
Если бы Фома остался жив, этого письма никто не увидел бы…
Как бы то ни было, можно ли отказать в такой просьбе?
"Впрочем, искать сына вы будете долго, даже если решитесь пойти наперекор моей предсмертной воле, - и люди, которым я доверил Александра, предупреждены о таких попытках: они укроют его. Но надеюсь, что вы ничего подобного не сделаете. В свое время Александру расскажут о его матери – как ты обещала рассказать Варду и Анастасии об их отце.
Забавно: я не раз убеждался в твоей честности, свойственной русским людям, и особенно честности в самых важных делах - но теперь уверен, что из твоих уст наши старшие дети не услышат обо мне ни слова. Конечно, так и лучше. История моей жизни принадлежит к тем, которые все замалчивают, потому что их слишком неудобно рассказывать.
Не знаю, как проститься, - все слова сейчас кажутся неуместными. Что могут сказать друг другу люди, которым предстоят разные вечности – которые стоят на пороге разных вечностей?
Да, я знаю, дорогая, что ты думаешь, будто давно стала нашей, - но зов твоей родины, глас твоей души звучит сейчас еще сильнее, чем раньше. Русские люди так же преданы своему древнему и кровному, как и ромеи, - и хотя вы, русы, взяли нашего бога, мы всегда будем чтить разных богов.
Желаю тебе счастья, где бы ты ни нашла в конце концов свою родину, - и за каким бы супругом ни последовала, ища ее. Или ты следуешь за подругой, а не за мужем?
Помни, что в конце концов, у последней черты, у человека остается только одна любовь и только один вождь.
Фома"
Феодора, закончив перечитывать письмо, поцеловала его и бережно свернула. Сейчас она спрячет его на место и запрет на ключ, чтобы эта память сохранилась как можно дольше.
В ее кедровой шкатулке хранились напоминания обо всех мужчинах, которых она сгубила. Богиня Желань, беспощадная к чужим, карала смертью всех чужестранцев, которые брали над нею власть...
- Только не ее! Пожалуйста! Не ее! – воскликнула Феодора в неожиданном ужасе: русская пленница не знала, к какому божеству обратить свои мольбы, как унять силу разрушения, вложенную в нее неведомо кем.
Какое божество молить, чтобы охранило самую большую ее любовь – Феофано?..
Фома вложил в это письмо еще один плотный пергаментный листок, где рассказал все, что было известно ему о происках инквизиции и ее пособников: патрикий называл имена людей, которых следовало особенно остерегаться в итальянском свете. Они с Леонардом уже не раз обсудили эти предостережения.
Да, Феодора Флатанелос уже могла говорить с убийцей об убитом… и это дело как будто бы удалось скрыть от чужих. И от Варда, который даже не знал, что его настоящий отец находился где-то поблизости и был причастен к возвращению Леонарда: а ранение отчима можно было приписать любой несчастной случайности.
Самый умный и даровитый старший мальчик, любимец Феодоры, остался в неведении.
Но, кажется, о случившемся догадалась девочка, девятилетняя Анастасия, которую мало замечали в той кутерьме, что творилась в доме и в головах хозяев. Феодора, приглядевшись наконец к единственной дочери, поняла, что этот тихий греческий ребенок держит про себя много больше, чем говорит. Анастасия ловко избегала внимания и матери, и Магдалины, - а других близких к ней чутких женщин, кому она могла бы открыться, рядом не было.
Впрочем, Анастасия никому не собиралась вредить… все зло, которое могло совершиться из-за убийства патрикия, совершилось в ее детской душе.
Но даже теперь Феодора радовалась, что дочь жила дома в имении, а не где-нибудь в городе, воспитанницей итальянцев: души итальянских детей омывали реки такого зловонного зла…
Несколько раз горячо поспорив, супруги порешили на том, что Александра следует оставить там, где он есть: Леонард, как и Феодора, склонен был поверить признанию Фомы.
"Когда я буду на Крите в следующий раз, - говорил комес, - я постараюсь разыскать Александра: и если ему живется хорошо и мальчик воспитывается правильно, полагаю, не следует ничего менять в его судьбе. Твоим детям выпало на долю уже слишком много потрясений", - усмехнулся Леонард.
"Не одним только моим", - вздохнула в ответ московитка.
Пока Леонард был в плену, занемог и умер второй муж ключницы, старший над русскими этериотами императора Константина: лет ему было уже под шестьдесят, и в нем заговорили старые раны, начались хвори. Русский дружинник за годы службы в Царьграде бывал много и жестоко порублен. Его малые дети остались с одной только матерью.
Но и трех месяцев не прошло с несчастливого возвращения Леонарда, как Евдокия Хрисанфовна тоже заболела и слегла.
Феодора была сражена: она мало тужила об Ярославе Игоревиче, потому что мало знала этого простого человека, - но с Евдокией Хрисанфовной Феодору, казалось, покидало все, что оставалось у нее от матери Руси.
Евдокия Хрисанфовна после смерти мужа, как и раньше, исправно служила в доме ключницей – но кто приглядывался, замечал, что мать всех московитов не столько в охотку служит, сколько перемогается. Евдокии Хрисанфовне минуло уже полвека, и до сих пор она оставалась здоровой и крепкой: и началась с нею телесная немочь нежданно, как и сухотка души.
- Я бы подольше пожила, не оставляла бы тебя, - говорила она хозяйке, сидевшей у ее изголовья. – Но душа не хочет, рвется… в теле не держится.
Рабыня Желань гладила ее руку, кропила слезами.
- Может, обойдется еще, матушка…
- Ты мне так говорила в первую нашу встречу, когда нас вместе в полон везли, - мягко усмехнулась Евдокия Хрисанфовна. – Забыла, поди? А я помню. Ни тогда нас с тобой наша чаша не минула, ни теперь не минует.
Она долго всматривалась в госпожу нестареющими серыми глазами.
- А ты какая была, такая и осталась.
Потом вдруг приподнялась, будто вновь обретя силы. Феодора бросилась помогать ей; но ключница отстранила ее. Она тяжело дышала, опираясь на подушки, взбитые у нее под спиной.
- Обещай мне… сейчас, как на духу, - проговорила Евдокия Хрисанфовна.
- Что угодно, матушка! - сказала Феодора.
- Что угодно не попрошу, - усмехнулась ключница, - а попрошу одну службу… Отвези моих детей домой, на Русь. Ты это теперь можешь, сама знаешь.
Феодора в растерянности выпрямилась, у нее едва не вырвался вопрос; но Евдокия Хрисанфовна властно подняла руку.
- Нет, не Микитку, его нельзя, - проговорила она. – Старший мой – теперь русский гречин, как ты, госпожа… пошла вам впрок грецкая наука. Ну, добро.
Феодора опустила голову, ощущая такой стыд, точно очутилась сейчас перед давно забытой матерью. Хотя Евдокия Хрисанфовна и не думала упрекать ее.
- А Владимир и Глеб русские, - продолжила ключница, с задумчивой и печальной напевностью, которую Феодора так еще помнила у русских жен. - У младших моих сынов душа домой рвется, как у меня, хотя они дома не видели… Что душе потребно, то Богу потребно. Но мне уже не судьба, а Владимиру и Глебу нельзя тут кончать!
Феодора медленно кивнула.
- Так, может быть, Вард…
- Твой Вард в море пойдет, и моих возьмет? Добро, - улыбнулась Евдокия Хрисанфовна: как будто эта общая судьба детей сейчас расстелилась перед нею скатертью, морской гладью.
Феодора склонилась к руке ключницы и прижалась к ней лбом.
- Слово даю, Евдокия Хрисанфовна. Отвезу твоих детей домой.
- Ну вот и хорошо, - ласково сказала ключница, коснувшись склоненной темноволосой головы. – Утешила ты меня, матушка боярыня.
Она улыбнулась: даже румянец вернулся на щеки.
- А теперь покличь ко мне Микитку, поговорить с ним хочу.
Феодора встала – она боялась: не собиралась ли Евдокия Хрисанфовна сей же час кончиться? Ей всегда казалось, что такие вещие люди, - такие вещие женщины, - до минуточки чувствуют, когда им приходит срок…
Хозяйка быстро вышла и позвала Микитку, который, конечно, сидел в коридоре. При виде ее евнух вскочил.
- Иди к матери, быстро! – приказала Феодора.
Микитка метнулся в комнату матери. Вот напугала его, подумала московитка. Ну а как тут угадаешь – успеешь ли?..
До нее донесся негромкий разговор больной с сыном; она поспешила отойти, чтобы не услышать лишнего.
Микитка вышел от матери через полчаса. Он, против ожиданий, даже улыбался.
- Заснула, - шепотом сказал евнух госпоже. – Просила, чтобы я не пугался… не время ей еще отходить. Я и не боюсь.
Феодора кивнула.
- У тебя сейчас прямо свет на лицо сошел, - сказала она. – Когда такое видишь, всему веришь…
Микитка улыбнулся, и Феодора коснулась губами его чистого лба. Микитка поклонился и ушел.
Проводив евнуха взглядом, госпожа вспомнила, что Мардоний обещал приехать, навестить своего филэ. Да, этих двоих тоже вполне, вполне можно было так называть: пусть они и не разделяли постели. Хороша грецкая наука!
"Хотела бы я знать, что сейчас говорила Микитке мать… предчувствуя скорый конец".
Московитка, не дожидаясь смерти Евдокии Хрисанфовны, поговорила с мужем. Леонард почти не удивился просьбе ключницы – как и ее настойчивости, ее уверенности в своем праве требовать для детей возвращения на родину.
- Мне кажется, недаром меня занесло в Болгарию: чтобы я хорошенько запомнил урок, которого не мог получить нигде больше, - сказал комес. – Вот страна, очень родственная вам, и жестоко страдавшая от ромеев, как теперь страдает от турок… они славные люди, - улыбнулся Леонард. – Я стал бы им другом, если бы не был на таком положении. Но у меня там были друзья… узнав, что у меня русская жена, болгары удивлялись и чувствовали ко мне особенное расположение.
- Так ты поможешь детям Евдокии Хрисанфовны вернуться на Русь? – спросила Феодора.
Леонард кивнул.
- Даю слово… если хочешь, прямо сейчас пойду и поклянусь Евдокии Хрисанфовне.
Феодора улыбнулась, потом качнула головой.
- Нет, милый, не нужно ее тревожить. Она знает, что мы исполним ее волю.
Евдокии Хрисанфовне скоро полегчало, и она провела на ногах еще два месяца. А потом вдруг слегла, быстро ослабела и умерла: в полном сознании, успев проститься со всей своей семьей и со своими господами.
Феодора очень плакала. А Леонард, стоя рядом с женой около свежей могилы, торжественно повторил над этой могилой клятву помочь русским детям в самом для них главном.
Re: Ставрос
Глава 167
Предупреждение: слэш (преслэш).
Мардоний сидел в комнате у друга, и с удовольствием уплетал пироги с изюмом и корицей, запивая вином. Микитка с таким же удовольствием смотрел на это: македонец стал еще крепче и выше, раздался в плечах и загорел. Жадность в еде еще больше красила его, заставляя думать, каков этот молодой мужчина в бою.
"И с женой", - подумал Микитка, покраснев.
Мардоний, отвлекшись от еды, посмотрел на него.
- А ты что же?
Македонец сделал приглашающий жест.
- Я не хочу, - Микитка покачал головой и засмеялся. – Я на тебя смотрю, и я - как будто ты… Мне за тебя сладко…
Мардоний встал.
- А мне только у тебя так сладко естся, - сказал он, улыбаясь. – Околдовал ты меня, брат Микитка!
Мардоний говорил по-русски: он научился по-русски уже сносно, хотя говорил все еще гораздо хуже Леонарда и Феофано. Подойдя к другу, Мардоний обнял его за плечи.
- Дома совсем не то, что с тобой, - сказал македонец: перейдя на греческий. Он погладил друга по плечу, потом поцеловал его в губы. Губы Мардония были сладкими.
Потом он удивленно и радостно засмеялся:
- А я думал, ты меня оттолкнешь!
Микитка не только не толкался – он ответил на поцелуй. Но потом сразу отвернулся.
Немного помолчав, московит сказал:
- Ты думал, я святой? Куда там!
Евнух вздохнул.
- Все эти святые, плоские, с икон, - чему они научат? Они сами неживые и других убивают… вот мать моя была, как святая, а какая горячая! Она за всех людей жила, и страдала, и радовалась тоже за всех! И душой, и телом!
Мардоний серьезно кивнул.
- Понимаю, - сказал он. – Ты за меня радуешься, потому что научился жить тем, чем я живу… это и есть любовь. Ты как будто у меня крадешь… а у меня только прибавляется!
Он опечалился.
- И я так же краду у тебя, когда о тебе думаю… только я бы тебе больше дал, чем взял.
Микитка понял.
- Я как мертвый… наполовину мертвый, и совсем меня не оживить, - усмехнулся он. – А будь я здоров, я бы не отказался… хоть раз с тобой.
Мардоний не поверил своим ушам.
Он долго смотрел на друга – а потом тихо спросил:
- Не отказался бы со мной? Правда?
- Не это, - поспешно воскликнул Микитка, вскинув ладони. – Без грязи!
Мардоний, наморщив высокий смуглый лоб, смотрел на него исподлобья очень серьезно, напоминая сразу и отца, и дядю.
- Так ведь этого… самой-то содомии между друзьями, между равными у нас и не было в обычае. Только пленников так брали, и наложников, - сказал он. – То, что сейчас в Турции и в Италии творится между мужчинами, - одна грязь!
Микитка кивнул.
- У нас на Руси мужеложства тоже теперь хватает, я сам слышал, хоть и не видел: у турок взяли да у вас, - вздохнул он. – Мне мать говорила, что у нас нельзя этим никого в соблазн вводить, потому что переврут все и в грязь спустят, как содомиты и делают. Мать сказала, что если уж чужое налаживать, то налаживать весь греческий обычай, с понятием, как у вас было, - но ведь у нас-то никак нельзя! Мы у вас взяли много и доброго, и худого… и довольно. Мы сами по себе должны стоять!
Мардоний нежно улыбнулся.
- Обычай с понятием – это у нас с тобой, - сказал он. – Потому что мы друг друга любим. Я никого здесь так не полюбил, как тебя люблю, - вздохнул младший Валентов сын. – Даже жену совсем по-другому, хотя и ее люблю… только все эти итальянцы мне уже поперек горла.
Он скривился, приставив ладонь к шее, под гладко выбритым подбородком.
- Достают? – спросил Микитка сочувственно.
Мардоний покачал головой.
- И не спрашивай. Рафаэла мне хоть и давно уже своя, а все равно чужая… как раскричится, про свою родню или про обиду какую-нибудь, или начнет по-латыни молиться, так хоть из дому беги. Они и говорят всегда как кричат, эти итальянки.
- Не бил ты ее? – спросил Микитка.
- Нет, - Мардоний удивился. – За что? Да ведь и не поможет.
- Я пошутил, - евнух грустно улыбнулся. – Битьем и правда только хуже сделаешь, а уж если без вины, так и вовсе погано будет в доме... И итальянку не переделаешь.
Мардоний сел на узкую жесткую постель друга, потом резко встал и прошелся по комнате.
- У вас хорошо, - сказал он с тоской. – Госпожа с комесом так хорошо живут, и мой дядя с женой… я никогда бы к тем итальянцам не возвращался. Или взял бы тебя и жену с сыном - и уехал от них насовсем!
- Извести-то тебя там больше не хотят? – спросил московит.
- А кто их знает, - ответил македонец. – Ненавидят, еще пуще прежнего, - у Моро меня все ненавидят, - он покачал черной красивой головой. – Бенедикто один меня любит, но все равно – своих больше!
- И молодец твой Бенедикто, - сказал Микитка: он поздно понял, что Мардоний говорит о своем итальянском друге и учителе, про которого дома у Флатанелосов вспоминал нечасто.
- А ты своих люби, - посоветовал евнух.
Он задумался.
- Помню, комес как-то говорил про своих критян… что они давно растворились среди народов, как соль в воде, - сказал евнух. – И нам в этой итальянской мутной водице тоже топиться нельзя, как есть все растворимся! Если будем вместе, может, лет через сто и храм православный тут построим!
- Размечтался, - засмеялся молодой македонец.
Потом Мардоний перестал улыбаться и, подойдя к другу, прижался лбом к его лбу. Сказал с глубокой тоской:
- Я бы сейчас уехал с тобой в Московию… или даже в Болгарию, хотя дядя ее презирает!
Микитка даже прослезился.
- Нельзя, милый, - сказал евнух. – Терпи.
Он прибавил:
- Ты хоть и католик теперь, а все равно - будь греческим католиком! Может, тогда хоть лет через двести мы здесь веру по-своему обернем! И у госпожи Феодоры скоро опять ребенок будет, и твоя Рафаэла опять в тягости, и Киру, твою двоюродную сестру, за грека просватали! Нас уже много, будет еще больше!
Мардоний посмотрел ему в глаза своими черными глазами и вдруг спросил:
- А когда комес поедет в Московию?
Микитка отвернулся. Загнул палец на левой руке, потом еще два.
- Мать… матушка уже три года как преставилась, - тихо сказал он. – Владимиру одиннадцать лет, Глебу четырнадцать… большие, - евнух улыбнулся с гордостью.
Уже четвертый год, по смерти Евдокии Хрисанфовны, Микитка заменял своим младшим братьям и отца, и мать. Он был настолько старше их, что и в самом деле почти мог бы быть им родителем; и учил их всему, что знал, как Леонард учил московитов мужской науке, а Феодора давала греческое образование. От Микитки братья много узнали о Руси – все, что Микитка сам видел и слышал, и все, что знал от своей матери.
- Еще пара-тройка годков, пока госпожа Феодора не родит и не отдохнет, - и комес повезет их, - решил Микитка.
Мардоний склонился к другу – теперь он вырос заметно выше его:
- И ты с ними поедешь?
Это было все, что македонец хотел знать.
- Мать мне не велела, - ответил Микитка. – Но мать не додумала, даже она всего передумать не может. Как я братов моих оставлю теперь? Поеду, хоть по первости… их же нужно будет в дома боярские ввести, к делу пристроить, да и свое хозяйство завести! Пусть даже деньги есть – у нас ведь не Италия, не Греция… все само не цветет, как в вашем раю!
Мардоний широко раскрыл глаза:
- А вдруг ты там останешься?
- Останусь, - Микитка тряхнул головой. – Хоть на сколько-то да останусь. Своя кровь, как же бросить?
Мардоний прикрылся ладонью. Он вообразить себе не мог ничего ужасней, чем лишиться своего сердечного друга навсегда.
Потом он отнял руку от лица и посмотрел на своего Патрокла, сжав губы.
- Я тогда с тобой поеду, - решительно сказал молодой македонец. – И пусть кто что хочет, то и говорит!
Микитка засмеялся. Глядя сейчас на этого обласканного югом и греческой жизнью македонца, он мог понять его предложение только как шутку.
- Выдумал ты, брат! А как ты свою итальянку возьмешь?
- А как все греки к вам плавали, - откликнулся Валентов сын почти надменно. – Ты сам как приехал? А Рафаэла теперь моя, а не Моро, куда укажу, туда со мной и поедет!
Мардоний топнул ногой.
- По-вашему я уже говорю!
Микитка уважительно качнул головой.
- Ты молодец, хозяин стал, - сказал он. – Но ты словами не бросайся… сейчас пошутил, а потом это ведь может тебе всю жизнь перевернуть, - серьезно заметил евнух. – Да и не одному тебе.
- Пусть перевернет, - сказал Мардоний.
Он вскинул голову.
- Мне друг дороже! И разве мы с тобой не мужчины? Вдвоем нам ничего не страшно!
- Мужчины, - улыбнулся Микитка.
Сейчас он совсем не смеялся.
Леонард и в самом деле был теперь совсем счастлив с Феодорой, которая опять ждала ребенка. Варда комес уже учил морскому делу, и даже брал с собой на Крит, когда ездил искать Александра.
Сына Фомы Нотараса они тогда так и не нашли – сказал ли Фома правду в последнем письме, осталось неизвестным; но им пришлось учиться быть счастливыми, несмотря на это. Ради себя, ради подрастающих и будущих детей. Феодора тогда тоже плавала с мужем – Леонард брал ее с собой в первый раз, еще раз показать русской подруге свою родину и дать проветрить голову, глотнуть свободы. Они тогда всей семьей вдоволь наплавались в теплом море… Феодора вспомнила все уроки, которые забыла.
Вард показал себя хорошим учеником – и мать не сомневалась, что ее рисовальщик кораблей уже нашел свое призвание: со временем он станет таким же искусным и отважным мореходом, как и комес Флатанелос.
Большой радостью стало то, что нашлась почти половина команды Леонарда: бывшие каторжники разыскали друг друга на Принцевых островах и сумели нанять корабль и вернуться домой. А больше всего Леонард обрадовался возвращению Артемидора, которого давно почитал погибшим, как когда-то мертвым мыслили его самого.
Феофано за эти годы почти не изменилась – достигнув сорокалетнего возраста, лакедемонянка не старилась, точно узнала какое-то средство, отвращающее старость. Она все еще жила в провинции, но иногда появлялась в городе, в самом Риме; и даже осмеливалась высказывать там свои греческие женские идеи. Это произвело шум, но царицу амазонок никто не тронул.
Лакедемонянка была не только признанной знаменитостью: она была православной веры, что все еще защищало ее от нападок инквизиции. И ее защищало и хранило все ее греческое братство: общими усилиями это братство окрепло и увеличилось за прошедшие годы, скольких бы страданий грекам ни стоило опять поднять голову.
Феофано тоже выходила в море, выходила сама, изумляя всех своей смелостью, – на нанятом у венецианских греков корабле. Она полностью вернула комесу долг и нажила состояние, причем кое-что получила неожиданным образом: через год после Евдокии Хрисанфовны умер от постыдной болезни Мелетий Гаврос, и часть своего немалого состояния старый киликиец оставил прославленной лакедемонянке. Это было скрыто от его итальянской семьи: от жены-римлянки и даже от детей.
Мелетий Гаврос, хотя и вел итальянскую жизнь, совсем не желал обогащать итальянцев посредством своей смерти.
Любовь Феодоры и Феофано, как и между Микиткой и Мардонием, только окрепла с годами; и была еще крепче, чем у этих двоих. Еще до того, как Феодора снова понесла от Леонарда, Феофано брала свою филэ с собой в море – на корабле, о чем Феодора давно тосковала, и поплавать. Комес отпустил жену по первой ее просьбе. Критянин до сих пор свято помнил свои слова, сказанные Феодоре еще в греческом тогда Константинополе, – он по-прежнему готов был умереть за то, чтобы две отважные и прекрасные подруги могли купаться в море без стыда и страха.
В этот раз Феодора родила дочь. И в этот раз Леонард очень радовался девочке – ее назвали Ириной.
Когда Ирине исполнился год, в доме всерьез заговорили о том, чтобы наконец поехать в Московию. Клятва, данная Евдокии Хрисанфовне, не могла терпеть так долго.
Предупреждение: слэш (преслэш).
Мардоний сидел в комнате у друга, и с удовольствием уплетал пироги с изюмом и корицей, запивая вином. Микитка с таким же удовольствием смотрел на это: македонец стал еще крепче и выше, раздался в плечах и загорел. Жадность в еде еще больше красила его, заставляя думать, каков этот молодой мужчина в бою.
"И с женой", - подумал Микитка, покраснев.
Мардоний, отвлекшись от еды, посмотрел на него.
- А ты что же?
Македонец сделал приглашающий жест.
- Я не хочу, - Микитка покачал головой и засмеялся. – Я на тебя смотрю, и я - как будто ты… Мне за тебя сладко…
Мардоний встал.
- А мне только у тебя так сладко естся, - сказал он, улыбаясь. – Околдовал ты меня, брат Микитка!
Мардоний говорил по-русски: он научился по-русски уже сносно, хотя говорил все еще гораздо хуже Леонарда и Феофано. Подойдя к другу, Мардоний обнял его за плечи.
- Дома совсем не то, что с тобой, - сказал македонец: перейдя на греческий. Он погладил друга по плечу, потом поцеловал его в губы. Губы Мардония были сладкими.
Потом он удивленно и радостно засмеялся:
- А я думал, ты меня оттолкнешь!
Микитка не только не толкался – он ответил на поцелуй. Но потом сразу отвернулся.
Немного помолчав, московит сказал:
- Ты думал, я святой? Куда там!
Евнух вздохнул.
- Все эти святые, плоские, с икон, - чему они научат? Они сами неживые и других убивают… вот мать моя была, как святая, а какая горячая! Она за всех людей жила, и страдала, и радовалась тоже за всех! И душой, и телом!
Мардоний серьезно кивнул.
- Понимаю, - сказал он. – Ты за меня радуешься, потому что научился жить тем, чем я живу… это и есть любовь. Ты как будто у меня крадешь… а у меня только прибавляется!
Он опечалился.
- И я так же краду у тебя, когда о тебе думаю… только я бы тебе больше дал, чем взял.
Микитка понял.
- Я как мертвый… наполовину мертвый, и совсем меня не оживить, - усмехнулся он. – А будь я здоров, я бы не отказался… хоть раз с тобой.
Мардоний не поверил своим ушам.
Он долго смотрел на друга – а потом тихо спросил:
- Не отказался бы со мной? Правда?
- Не это, - поспешно воскликнул Микитка, вскинув ладони. – Без грязи!
Мардоний, наморщив высокий смуглый лоб, смотрел на него исподлобья очень серьезно, напоминая сразу и отца, и дядю.
- Так ведь этого… самой-то содомии между друзьями, между равными у нас и не было в обычае. Только пленников так брали, и наложников, - сказал он. – То, что сейчас в Турции и в Италии творится между мужчинами, - одна грязь!
Микитка кивнул.
- У нас на Руси мужеложства тоже теперь хватает, я сам слышал, хоть и не видел: у турок взяли да у вас, - вздохнул он. – Мне мать говорила, что у нас нельзя этим никого в соблазн вводить, потому что переврут все и в грязь спустят, как содомиты и делают. Мать сказала, что если уж чужое налаживать, то налаживать весь греческий обычай, с понятием, как у вас было, - но ведь у нас-то никак нельзя! Мы у вас взяли много и доброго, и худого… и довольно. Мы сами по себе должны стоять!
Мардоний нежно улыбнулся.
- Обычай с понятием – это у нас с тобой, - сказал он. – Потому что мы друг друга любим. Я никого здесь так не полюбил, как тебя люблю, - вздохнул младший Валентов сын. – Даже жену совсем по-другому, хотя и ее люблю… только все эти итальянцы мне уже поперек горла.
Он скривился, приставив ладонь к шее, под гладко выбритым подбородком.
- Достают? – спросил Микитка сочувственно.
Мардоний покачал головой.
- И не спрашивай. Рафаэла мне хоть и давно уже своя, а все равно чужая… как раскричится, про свою родню или про обиду какую-нибудь, или начнет по-латыни молиться, так хоть из дому беги. Они и говорят всегда как кричат, эти итальянки.
- Не бил ты ее? – спросил Микитка.
- Нет, - Мардоний удивился. – За что? Да ведь и не поможет.
- Я пошутил, - евнух грустно улыбнулся. – Битьем и правда только хуже сделаешь, а уж если без вины, так и вовсе погано будет в доме... И итальянку не переделаешь.
Мардоний сел на узкую жесткую постель друга, потом резко встал и прошелся по комнате.
- У вас хорошо, - сказал он с тоской. – Госпожа с комесом так хорошо живут, и мой дядя с женой… я никогда бы к тем итальянцам не возвращался. Или взял бы тебя и жену с сыном - и уехал от них насовсем!
- Извести-то тебя там больше не хотят? – спросил московит.
- А кто их знает, - ответил македонец. – Ненавидят, еще пуще прежнего, - у Моро меня все ненавидят, - он покачал черной красивой головой. – Бенедикто один меня любит, но все равно – своих больше!
- И молодец твой Бенедикто, - сказал Микитка: он поздно понял, что Мардоний говорит о своем итальянском друге и учителе, про которого дома у Флатанелосов вспоминал нечасто.
- А ты своих люби, - посоветовал евнух.
Он задумался.
- Помню, комес как-то говорил про своих критян… что они давно растворились среди народов, как соль в воде, - сказал евнух. – И нам в этой итальянской мутной водице тоже топиться нельзя, как есть все растворимся! Если будем вместе, может, лет через сто и храм православный тут построим!
- Размечтался, - засмеялся молодой македонец.
Потом Мардоний перестал улыбаться и, подойдя к другу, прижался лбом к его лбу. Сказал с глубокой тоской:
- Я бы сейчас уехал с тобой в Московию… или даже в Болгарию, хотя дядя ее презирает!
Микитка даже прослезился.
- Нельзя, милый, - сказал евнух. – Терпи.
Он прибавил:
- Ты хоть и католик теперь, а все равно - будь греческим католиком! Может, тогда хоть лет через двести мы здесь веру по-своему обернем! И у госпожи Феодоры скоро опять ребенок будет, и твоя Рафаэла опять в тягости, и Киру, твою двоюродную сестру, за грека просватали! Нас уже много, будет еще больше!
Мардоний посмотрел ему в глаза своими черными глазами и вдруг спросил:
- А когда комес поедет в Московию?
Микитка отвернулся. Загнул палец на левой руке, потом еще два.
- Мать… матушка уже три года как преставилась, - тихо сказал он. – Владимиру одиннадцать лет, Глебу четырнадцать… большие, - евнух улыбнулся с гордостью.
Уже четвертый год, по смерти Евдокии Хрисанфовны, Микитка заменял своим младшим братьям и отца, и мать. Он был настолько старше их, что и в самом деле почти мог бы быть им родителем; и учил их всему, что знал, как Леонард учил московитов мужской науке, а Феодора давала греческое образование. От Микитки братья много узнали о Руси – все, что Микитка сам видел и слышал, и все, что знал от своей матери.
- Еще пара-тройка годков, пока госпожа Феодора не родит и не отдохнет, - и комес повезет их, - решил Микитка.
Мардоний склонился к другу – теперь он вырос заметно выше его:
- И ты с ними поедешь?
Это было все, что македонец хотел знать.
- Мать мне не велела, - ответил Микитка. – Но мать не додумала, даже она всего передумать не может. Как я братов моих оставлю теперь? Поеду, хоть по первости… их же нужно будет в дома боярские ввести, к делу пристроить, да и свое хозяйство завести! Пусть даже деньги есть – у нас ведь не Италия, не Греция… все само не цветет, как в вашем раю!
Мардоний широко раскрыл глаза:
- А вдруг ты там останешься?
- Останусь, - Микитка тряхнул головой. – Хоть на сколько-то да останусь. Своя кровь, как же бросить?
Мардоний прикрылся ладонью. Он вообразить себе не мог ничего ужасней, чем лишиться своего сердечного друга навсегда.
Потом он отнял руку от лица и посмотрел на своего Патрокла, сжав губы.
- Я тогда с тобой поеду, - решительно сказал молодой македонец. – И пусть кто что хочет, то и говорит!
Микитка засмеялся. Глядя сейчас на этого обласканного югом и греческой жизнью македонца, он мог понять его предложение только как шутку.
- Выдумал ты, брат! А как ты свою итальянку возьмешь?
- А как все греки к вам плавали, - откликнулся Валентов сын почти надменно. – Ты сам как приехал? А Рафаэла теперь моя, а не Моро, куда укажу, туда со мной и поедет!
Мардоний топнул ногой.
- По-вашему я уже говорю!
Микитка уважительно качнул головой.
- Ты молодец, хозяин стал, - сказал он. – Но ты словами не бросайся… сейчас пошутил, а потом это ведь может тебе всю жизнь перевернуть, - серьезно заметил евнух. – Да и не одному тебе.
- Пусть перевернет, - сказал Мардоний.
Он вскинул голову.
- Мне друг дороже! И разве мы с тобой не мужчины? Вдвоем нам ничего не страшно!
- Мужчины, - улыбнулся Микитка.
Сейчас он совсем не смеялся.
Леонард и в самом деле был теперь совсем счастлив с Феодорой, которая опять ждала ребенка. Варда комес уже учил морскому делу, и даже брал с собой на Крит, когда ездил искать Александра.
Сына Фомы Нотараса они тогда так и не нашли – сказал ли Фома правду в последнем письме, осталось неизвестным; но им пришлось учиться быть счастливыми, несмотря на это. Ради себя, ради подрастающих и будущих детей. Феодора тогда тоже плавала с мужем – Леонард брал ее с собой в первый раз, еще раз показать русской подруге свою родину и дать проветрить голову, глотнуть свободы. Они тогда всей семьей вдоволь наплавались в теплом море… Феодора вспомнила все уроки, которые забыла.
Вард показал себя хорошим учеником – и мать не сомневалась, что ее рисовальщик кораблей уже нашел свое призвание: со временем он станет таким же искусным и отважным мореходом, как и комес Флатанелос.
Большой радостью стало то, что нашлась почти половина команды Леонарда: бывшие каторжники разыскали друг друга на Принцевых островах и сумели нанять корабль и вернуться домой. А больше всего Леонард обрадовался возвращению Артемидора, которого давно почитал погибшим, как когда-то мертвым мыслили его самого.
Феофано за эти годы почти не изменилась – достигнув сорокалетнего возраста, лакедемонянка не старилась, точно узнала какое-то средство, отвращающее старость. Она все еще жила в провинции, но иногда появлялась в городе, в самом Риме; и даже осмеливалась высказывать там свои греческие женские идеи. Это произвело шум, но царицу амазонок никто не тронул.
Лакедемонянка была не только признанной знаменитостью: она была православной веры, что все еще защищало ее от нападок инквизиции. И ее защищало и хранило все ее греческое братство: общими усилиями это братство окрепло и увеличилось за прошедшие годы, скольких бы страданий грекам ни стоило опять поднять голову.
Феофано тоже выходила в море, выходила сама, изумляя всех своей смелостью, – на нанятом у венецианских греков корабле. Она полностью вернула комесу долг и нажила состояние, причем кое-что получила неожиданным образом: через год после Евдокии Хрисанфовны умер от постыдной болезни Мелетий Гаврос, и часть своего немалого состояния старый киликиец оставил прославленной лакедемонянке. Это было скрыто от его итальянской семьи: от жены-римлянки и даже от детей.
Мелетий Гаврос, хотя и вел итальянскую жизнь, совсем не желал обогащать итальянцев посредством своей смерти.
Любовь Феодоры и Феофано, как и между Микиткой и Мардонием, только окрепла с годами; и была еще крепче, чем у этих двоих. Еще до того, как Феодора снова понесла от Леонарда, Феофано брала свою филэ с собой в море – на корабле, о чем Феодора давно тосковала, и поплавать. Комес отпустил жену по первой ее просьбе. Критянин до сих пор свято помнил свои слова, сказанные Феодоре еще в греческом тогда Константинополе, – он по-прежнему готов был умереть за то, чтобы две отважные и прекрасные подруги могли купаться в море без стыда и страха.
В этот раз Феодора родила дочь. И в этот раз Леонард очень радовался девочке – ее назвали Ириной.
Когда Ирине исполнился год, в доме всерьез заговорили о том, чтобы наконец поехать в Московию. Клятва, данная Евдокии Хрисанфовне, не могла терпеть так долго.
Re: Ставрос
Глава 168
Феодора стояла на палубе, облокотившись о низкий борт, - ветер отдувал с шеи темные волосы, свободно подобранные несколькими косами на висках и затылке; головное покрывало давно свалилось. Феофано стояла рядом – спиной к борту, скрестив руки на груди. Случись большая волна, она свалилась бы в воду, но лакедемонянку это нисколько не тревожило.
Она смотрела на свою подругу – скользила взглядом с головы до ног, отмечая все: каждую краску, каждую тень.
Раньше они всегда смеялись, безудержно радовались, когда были вдвоем в море, - а сейчас могли только улыбаться через силу, поддерживая одна другую.
Наконец Феодора подошла к гречанке и, ничего не говоря, крепко обняла ее. Феофано погладила ее обеими руками по волосам, скользнула ладонями по плечам, по бедрам – а потом вдруг, с силой отстранив от себя, посмотрела московитке в лицо. Она предложила, говоря по-русски совершенно чисто:
- Хочешь? Мы доплывем!
Она показала рукой за борт.
Феодора усомнилась было – а потом улыбнулась и тряхнула головой. Конечно, доплывут!
Спартанка уже проворно раздевалась: она сбросила на палубу сапоги, расстегнула тяжелый пояс, на турецкий манер расшитый золотыми монетами и каменьями, а потом сняла и длинное платье, под которым были только нижняя рубашка без рукавов и легкие шаровары.
Феофано первая взобралась на борт, придержавшись за край рукой; потом покачнулась, ловко выпрямляясь и поднимая руки над головой. Мгновение ее сильная, всегда устремленная вперед фигура чернела на многокрасочном вечернем небе – а потом Феофано бросилась в море, с шумным плеском разрезав воду своим вытянутым телом и скользнув в глубину.
Она вынырнула, отплевываясь от воды и уже смеясь, - и, повертев головой, увидела рядом свою московитку; на мгновение Феофано почудился страх в ее темных глазах, и она устремилась на помощь. Но Феодора тоже засмеялась, удержавшись на плотной теплой воде; обернувшись к кораблю, амазонки весело помахали руками обеспокоенным мужчинам, перегнувшимся через борт.
Феофано, повернувшись, плашмя бросилась на воду и сильными гребками поплыла к берегу; Феодора за ней. Московитка заметно отстала – когда она показалась из воды в полный рост, тяжело дыша, Феофано уже стояла на песке, наклонившись и выкручивая густые спутанные волосы.
Кое-кто из матросов и рабочих в бухте заметил их, но поглядывал на купальщиц на почтительном расстоянии; неодобрение, восхищение, изумление – все это мужчины придержали, переговариваясь тихо, чтобы амазонки не услышали.
Отряхнувшись от воды, подруги сели рядом на песок и, прижавшись друг к другу, стали ждать, пока не подойдет корабль.
- Мой "Нотарас" тоже скоро покинет Венецию, - сказала Феофано, наблюдая, как галера приближается: они все громче слышали согласные крики гребцов. – Как жаль, что мой корабль не может плыть с вами до Московии!
- Это все равно. Тебя с нами так и так не будет, - проговорила Феодора едва слышно.
Когда "Нотарас" причалил, женщины поднялись на борт, снять с себя мокрое и забрать свою сброшенную одежду и вещи. Феофано поговорила с воинами, которые подошли к ним с обеих сторон, - она повелительным жестом показала на берег. Уже смеркалось: зажгли факелы.
Московитка плечом к плечу со знаменитой гречанкой и в окружении греков спустилась на берег снова; они пошли пешком, шагая быстро и посмеиваясь в возбуждении от ночной прогулки. До своего венецианского дома - Леонардова дома, который он предоставил в распоряжение Феодоры и Феофано.
Амазонки приняли ванну, потом оделись в домашние платья; затем отправились в спальню, где им оставили вино и поднос с фруктами. Больше есть не хотелось.
Когда они, съев по яблоку и выпив легкого вина, легли в постель, Феодора сразу попыталась заснуть; но у нее не получалось. Феофано и не пыталась спать – она наблюдала за любовницей, приподнявшись на локте.
Потом окликнула ее.
Феодора с готовностью повернулась – и посмотрела на гречанку снизу вверх, доверчиво, как прежде: взглядом умоляя о совете. Феофано улыбнулась.
- Ты опять лежишь и каешься… не хватит ли? – спросила она. – Еще накаешься!
Русская пленница села.
- Неужели ты никогда не думаешь о грехе? – спросила она.
Феофано опустила подбородок на скрещенные на коленях руки.
- Дорогая, - серьезно ответила спартанка. – И без меня на свете слишком много женщин, думающих только о грехе! Грех, вечный грех, - она поморщилась. – Женщины всех народов - как почва, которая без разбору впитывает все соки, которые изливаются в нее. Женщины редко различают свои мнения среди навязанных; и что еще хуже, редко пытаются это делать.
Феодора смотрела на нее не дыша.
- Ты думаешь - то, что мы делаем, угодно Господу?
- Да, я так думаю, - ответила лакедемонянка, вскинув голову. – А если Господу что-нибудь не понравится, я готова, поднявшись на небо, поспорить с Ним! Силен ли Он в логике так, как я? Почему Он так бездеятелен, почему не помог нам – и не в нас ли должен искать Свое основание, если ни на что не способен без людей?..
Спартанка потрясала кулаком, обводя взглядом темную комнату: будто ища других слушателей, союзников себе. Потом, не найдя их, царица шумно вздохнула и притянула к себе подругу.
- Вот мое основание, - прошептала Феофано, уткнувшись в темные волосы московитки. – Другие женщины пусть ищут свое основание в подчинении… хотя не знаю, какое основание можно найти в непролазной трясине, - усмехнулась она. – Аристотель справедливо называл женщин бесплодной материей: и это мужчины сделали нас такими, и почти никто из жен не воспротивился мужам… почти никто не понял своего унижения! – яростно выкрикнула Феофано.
Феодора взяла ее за руку: она любила это делать, чувствовать теплую силу подруги.
- Мне кажется, дорогая госпожа, ты движешься к тому, чтобы стать мужчиной, - сказала она. – Но ведь ты этого все равно никогда не сможешь.
Феофано высоко подняла голову.
- Я недавно поняла это, - сказала она низким, полным гордости голосом. – Все женщины движутся к тому, чтобы стать мужчинами… потому что только мужчина признается за настоящего человека, который полностью решает за себя и создает свою судьбу и чужую, претворяет мир. Женственность во всем мире преобразуется в мужественность, это и есть положительный закон развития человечества: применимый как к человеку, так и ко всему обществу! Когда женственность одолевает мужественность, развитие отрицательно. Именно так всегда учили греки, мой мужественный народ.
Спартанка перевела дух.
- Раб, покорный, как женщина, становится мужчиной, когда разрывает свои цепи! Народ движется к тому, чтобы начать управлять собой, - чтобы из женщины превратиться в мужчину, властелина своей судьбы! Страны, покорившиеся императору, движутся к освобождению – становятся из женщин мужчинами! А сама женщина?
Спартанка засмеялась.
- Когда женского начала слишком много, это развращает и губит государство… а для того, чтобы государство стояло, слушай внимательно… никто не скажет тебе, кроме меня…
Феофано взяла лицо подруги в ладони и развернула к себе, строго вглядываясь ей в глаза.
- Для того, чтобы государство стояло… даже просто стояло, а не скатывалось назад… нужно, чтобы женщины непрестанно стремились к мужественности, - и это чувствуют все, кто поддерживает меня. Знаешь ли, какое право присвоили себе мужчины, - самое главное право?
Феодора, как всегда, завороженная речами возлюбленной, покачала головой.
- Право говорить за всех людей, давать имена всему под солнцем… считая за людей только себя, - усмехнулась Феофано. – Тогда как человек существует только в союзе женщины, стремящейся к мужественности, и мужчины, стремящегося к смерти… чтобы опять возродиться в женском лоне и начать становиться человеком.
- Вечный круг развития, - прошептала Феодора.
- Не круг, - покачала головой ее филэ. – Спираль - или ты забыла? В круге развития нет, он замкнут сам на себя.
Царица амазонок улыбнулась.
- Как ты думаешь, почему твоя Евдокия Хрисанфовна осудила своего сына, который стал бы содомитом, если бы его не сделали евнухом, - но ни разу не осудила тебя, хотя христианская вера точно так же велела ей делать это?
- Потому что Евдокия Хрисанфовна сама была такая мужественная женщина, которая говорила за людей, и она понимала положительный закон развития, - прошептала московитка. – Евдокия Хрисанфовна говорила не только за церковь - говорила за Русь, которая много больше церкви…
- Так же, как и Византия много больше церкви, - кивнула Феофано. – Разве церковь придумала математику? Логику? Астрономию? Пф!..
Она опрокинулась на спину и пнула воздух сильной ногой.
- Народ этого не знает; и, конечно, после нашей смерти народ будет судить тебя и меня… но народ редко поднимает голову от сохи. А те немногие из наших потомков, которые вознесутся высоко и разовьются так же, как мы, однажды поднимут голову и увидят звезды в разрыве туч. Это будут наши с тобой звезды… боги превратят нас в созвездие, в память о нашей любви и смелости.
- Я никогда не научусь говорить подобно тебе… понимаю, почему тебя слушали даже в Риме, - прошептала Феодора.
Феофано привлекла возлюбленную к себе, спуская сорочку с ее плеч.
- Не нужно ничего говорить.
Потом они долго лежали без сна, соприкаясь коленями и плечами, - обе чувствовали, что любили друг друга в последний раз.
В семье Флатанелосов было постановлено, что Феодора с детьми поедет с комесом в Московию, - Леонард чувствовал, какой опасности его русская жена подвергается здесь, во владениях Рима, без него: критянину опять предстояло слишком длительное путешествие. И он не мог опять расстаться с любимой женой и детьми так надолго.
И родина требовала, звала Феодору к себе: долг призывал русскую пленницу - Феодора чувствовала это так сильно, как будто Евдокия Хрисанфовна повелела ей ехать вместе со своими сыновьями. Будто Русь потребовала от нее расстаться с Феофано, чтобы последовать за мужем, как и надлежало христианской жене: как некогда русские жены-язычницы ехали с великой Ольгой в Царьград.
А когда Флатанелосы вернутся… конечно же, они вернутся… все будет совсем по-другому. Пройдет не так уж много времени – но когда женщин разделяет столько стран, верований и предрассудков, несколько лет равны целой жизни.
"Феофано будет пятьдесят лет… я не думала, что ей когда-нибудь будет пятьдесят лет", - подумала Феодора почти с ужасом. Феофано все еще выглядела гораздо моложе своего возраста; но разрушение женщины, ее красоты и здоровья, может совершиться очень быстро.
- О чем задумалась? – спросила спартанка у нее над ухом.
- Ни о чем, - поспешно отозвалась Феодора. Она болезненно улыбнулась, слыша, что Феофано опять говорит на русском языке: на безукоризненном русском. Это было каким-то общим опьянением… которое вот-вот кончится.
Женщинам нельзя пить, потому что они должны хранить свой очаг.
Феофано погладила ее по голове, и Феодора поняла, что царица догадалась обо всем, о чем она сейчас молчала.
На другое утро они выехали назад в Анцио.
Феодора стояла на палубе, облокотившись о низкий борт, - ветер отдувал с шеи темные волосы, свободно подобранные несколькими косами на висках и затылке; головное покрывало давно свалилось. Феофано стояла рядом – спиной к борту, скрестив руки на груди. Случись большая волна, она свалилась бы в воду, но лакедемонянку это нисколько не тревожило.
Она смотрела на свою подругу – скользила взглядом с головы до ног, отмечая все: каждую краску, каждую тень.
Раньше они всегда смеялись, безудержно радовались, когда были вдвоем в море, - а сейчас могли только улыбаться через силу, поддерживая одна другую.
Наконец Феодора подошла к гречанке и, ничего не говоря, крепко обняла ее. Феофано погладила ее обеими руками по волосам, скользнула ладонями по плечам, по бедрам – а потом вдруг, с силой отстранив от себя, посмотрела московитке в лицо. Она предложила, говоря по-русски совершенно чисто:
- Хочешь? Мы доплывем!
Она показала рукой за борт.
Феодора усомнилась было – а потом улыбнулась и тряхнула головой. Конечно, доплывут!
Спартанка уже проворно раздевалась: она сбросила на палубу сапоги, расстегнула тяжелый пояс, на турецкий манер расшитый золотыми монетами и каменьями, а потом сняла и длинное платье, под которым были только нижняя рубашка без рукавов и легкие шаровары.
Феофано первая взобралась на борт, придержавшись за край рукой; потом покачнулась, ловко выпрямляясь и поднимая руки над головой. Мгновение ее сильная, всегда устремленная вперед фигура чернела на многокрасочном вечернем небе – а потом Феофано бросилась в море, с шумным плеском разрезав воду своим вытянутым телом и скользнув в глубину.
Она вынырнула, отплевываясь от воды и уже смеясь, - и, повертев головой, увидела рядом свою московитку; на мгновение Феофано почудился страх в ее темных глазах, и она устремилась на помощь. Но Феодора тоже засмеялась, удержавшись на плотной теплой воде; обернувшись к кораблю, амазонки весело помахали руками обеспокоенным мужчинам, перегнувшимся через борт.
Феофано, повернувшись, плашмя бросилась на воду и сильными гребками поплыла к берегу; Феодора за ней. Московитка заметно отстала – когда она показалась из воды в полный рост, тяжело дыша, Феофано уже стояла на песке, наклонившись и выкручивая густые спутанные волосы.
Кое-кто из матросов и рабочих в бухте заметил их, но поглядывал на купальщиц на почтительном расстоянии; неодобрение, восхищение, изумление – все это мужчины придержали, переговариваясь тихо, чтобы амазонки не услышали.
Отряхнувшись от воды, подруги сели рядом на песок и, прижавшись друг к другу, стали ждать, пока не подойдет корабль.
- Мой "Нотарас" тоже скоро покинет Венецию, - сказала Феофано, наблюдая, как галера приближается: они все громче слышали согласные крики гребцов. – Как жаль, что мой корабль не может плыть с вами до Московии!
- Это все равно. Тебя с нами так и так не будет, - проговорила Феодора едва слышно.
Когда "Нотарас" причалил, женщины поднялись на борт, снять с себя мокрое и забрать свою сброшенную одежду и вещи. Феофано поговорила с воинами, которые подошли к ним с обеих сторон, - она повелительным жестом показала на берег. Уже смеркалось: зажгли факелы.
Московитка плечом к плечу со знаменитой гречанкой и в окружении греков спустилась на берег снова; они пошли пешком, шагая быстро и посмеиваясь в возбуждении от ночной прогулки. До своего венецианского дома - Леонардова дома, который он предоставил в распоряжение Феодоры и Феофано.
Амазонки приняли ванну, потом оделись в домашние платья; затем отправились в спальню, где им оставили вино и поднос с фруктами. Больше есть не хотелось.
Когда они, съев по яблоку и выпив легкого вина, легли в постель, Феодора сразу попыталась заснуть; но у нее не получалось. Феофано и не пыталась спать – она наблюдала за любовницей, приподнявшись на локте.
Потом окликнула ее.
Феодора с готовностью повернулась – и посмотрела на гречанку снизу вверх, доверчиво, как прежде: взглядом умоляя о совете. Феофано улыбнулась.
- Ты опять лежишь и каешься… не хватит ли? – спросила она. – Еще накаешься!
Русская пленница села.
- Неужели ты никогда не думаешь о грехе? – спросила она.
Феофано опустила подбородок на скрещенные на коленях руки.
- Дорогая, - серьезно ответила спартанка. – И без меня на свете слишком много женщин, думающих только о грехе! Грех, вечный грех, - она поморщилась. – Женщины всех народов - как почва, которая без разбору впитывает все соки, которые изливаются в нее. Женщины редко различают свои мнения среди навязанных; и что еще хуже, редко пытаются это делать.
Феодора смотрела на нее не дыша.
- Ты думаешь - то, что мы делаем, угодно Господу?
- Да, я так думаю, - ответила лакедемонянка, вскинув голову. – А если Господу что-нибудь не понравится, я готова, поднявшись на небо, поспорить с Ним! Силен ли Он в логике так, как я? Почему Он так бездеятелен, почему не помог нам – и не в нас ли должен искать Свое основание, если ни на что не способен без людей?..
Спартанка потрясала кулаком, обводя взглядом темную комнату: будто ища других слушателей, союзников себе. Потом, не найдя их, царица шумно вздохнула и притянула к себе подругу.
- Вот мое основание, - прошептала Феофано, уткнувшись в темные волосы московитки. – Другие женщины пусть ищут свое основание в подчинении… хотя не знаю, какое основание можно найти в непролазной трясине, - усмехнулась она. – Аристотель справедливо называл женщин бесплодной материей: и это мужчины сделали нас такими, и почти никто из жен не воспротивился мужам… почти никто не понял своего унижения! – яростно выкрикнула Феофано.
Феодора взяла ее за руку: она любила это делать, чувствовать теплую силу подруги.
- Мне кажется, дорогая госпожа, ты движешься к тому, чтобы стать мужчиной, - сказала она. – Но ведь ты этого все равно никогда не сможешь.
Феофано высоко подняла голову.
- Я недавно поняла это, - сказала она низким, полным гордости голосом. – Все женщины движутся к тому, чтобы стать мужчинами… потому что только мужчина признается за настоящего человека, который полностью решает за себя и создает свою судьбу и чужую, претворяет мир. Женственность во всем мире преобразуется в мужественность, это и есть положительный закон развития человечества: применимый как к человеку, так и ко всему обществу! Когда женственность одолевает мужественность, развитие отрицательно. Именно так всегда учили греки, мой мужественный народ.
Спартанка перевела дух.
- Раб, покорный, как женщина, становится мужчиной, когда разрывает свои цепи! Народ движется к тому, чтобы начать управлять собой, - чтобы из женщины превратиться в мужчину, властелина своей судьбы! Страны, покорившиеся императору, движутся к освобождению – становятся из женщин мужчинами! А сама женщина?
Спартанка засмеялась.
- Когда женского начала слишком много, это развращает и губит государство… а для того, чтобы государство стояло, слушай внимательно… никто не скажет тебе, кроме меня…
Феофано взяла лицо подруги в ладони и развернула к себе, строго вглядываясь ей в глаза.
- Для того, чтобы государство стояло… даже просто стояло, а не скатывалось назад… нужно, чтобы женщины непрестанно стремились к мужественности, - и это чувствуют все, кто поддерживает меня. Знаешь ли, какое право присвоили себе мужчины, - самое главное право?
Феодора, как всегда, завороженная речами возлюбленной, покачала головой.
- Право говорить за всех людей, давать имена всему под солнцем… считая за людей только себя, - усмехнулась Феофано. – Тогда как человек существует только в союзе женщины, стремящейся к мужественности, и мужчины, стремящегося к смерти… чтобы опять возродиться в женском лоне и начать становиться человеком.
- Вечный круг развития, - прошептала Феодора.
- Не круг, - покачала головой ее филэ. – Спираль - или ты забыла? В круге развития нет, он замкнут сам на себя.
Царица амазонок улыбнулась.
- Как ты думаешь, почему твоя Евдокия Хрисанфовна осудила своего сына, который стал бы содомитом, если бы его не сделали евнухом, - но ни разу не осудила тебя, хотя христианская вера точно так же велела ей делать это?
- Потому что Евдокия Хрисанфовна сама была такая мужественная женщина, которая говорила за людей, и она понимала положительный закон развития, - прошептала московитка. – Евдокия Хрисанфовна говорила не только за церковь - говорила за Русь, которая много больше церкви…
- Так же, как и Византия много больше церкви, - кивнула Феофано. – Разве церковь придумала математику? Логику? Астрономию? Пф!..
Она опрокинулась на спину и пнула воздух сильной ногой.
- Народ этого не знает; и, конечно, после нашей смерти народ будет судить тебя и меня… но народ редко поднимает голову от сохи. А те немногие из наших потомков, которые вознесутся высоко и разовьются так же, как мы, однажды поднимут голову и увидят звезды в разрыве туч. Это будут наши с тобой звезды… боги превратят нас в созвездие, в память о нашей любви и смелости.
- Я никогда не научусь говорить подобно тебе… понимаю, почему тебя слушали даже в Риме, - прошептала Феодора.
Феофано привлекла возлюбленную к себе, спуская сорочку с ее плеч.
- Не нужно ничего говорить.
Потом они долго лежали без сна, соприкаясь коленями и плечами, - обе чувствовали, что любили друг друга в последний раз.
В семье Флатанелосов было постановлено, что Феодора с детьми поедет с комесом в Московию, - Леонард чувствовал, какой опасности его русская жена подвергается здесь, во владениях Рима, без него: критянину опять предстояло слишком длительное путешествие. И он не мог опять расстаться с любимой женой и детьми так надолго.
И родина требовала, звала Феодору к себе: долг призывал русскую пленницу - Феодора чувствовала это так сильно, как будто Евдокия Хрисанфовна повелела ей ехать вместе со своими сыновьями. Будто Русь потребовала от нее расстаться с Феофано, чтобы последовать за мужем, как и надлежало христианской жене: как некогда русские жены-язычницы ехали с великой Ольгой в Царьград.
А когда Флатанелосы вернутся… конечно же, они вернутся… все будет совсем по-другому. Пройдет не так уж много времени – но когда женщин разделяет столько стран, верований и предрассудков, несколько лет равны целой жизни.
"Феофано будет пятьдесят лет… я не думала, что ей когда-нибудь будет пятьдесят лет", - подумала Феодора почти с ужасом. Феофано все еще выглядела гораздо моложе своего возраста; но разрушение женщины, ее красоты и здоровья, может совершиться очень быстро.
- О чем задумалась? – спросила спартанка у нее над ухом.
- Ни о чем, - поспешно отозвалась Феодора. Она болезненно улыбнулась, слыша, что Феофано опять говорит на русском языке: на безукоризненном русском. Это было каким-то общим опьянением… которое вот-вот кончится.
Женщинам нельзя пить, потому что они должны хранить свой очаг.
Феофано погладила ее по голове, и Феодора поняла, что царица догадалась обо всем, о чем она сейчас молчала.
На другое утро они выехали назад в Анцио.
Re: Ставрос
Глава 169
"Василисса Феодора" возродилась к жизни.
Леонард Флатанелос, наняв самых искусных плотников и подгоняя рабочих, необыкновенно быстро построил для путешествия новую галеру, которая почти в точности повторяла тот, погибший у Прота, корабль: только сделана была не из кедра, а из прочнейшего северного дуба. Леонард целые часы проводил на венецианской верфи, как когда-то – в Золотом Роге; а его русская жена, с маленькой дочкой на коленях, сидела рядом на распиленном бревне, с удовольствием вдыхая запах морской соли и нутряной запах свежего дерева. Стук молотков, скрежет пил и громкая греческая речь, в которой слышались то перебранка, то взрывы смеха, были по сердцу и ей, и ребенку, который совсем не капризничал.
Леонард, улучив минуту, подошел к Феодоре; он так и сиял. Протянул руки сразу и матери, и дочери.
- Идемте, мои дорогие, я вам все покажу.
Феодора хотела принять руку мужа; но он стремительным движением подхватил на руки обеих своих женщин. Московитка засмеялась, обхватив комеса за шею; вырываться было бесполезно. Но Леонард сам знал, когда отпустить свою подругу.
Комес поднялся с ней и с дочкой по сходням и поставил жену на палубу: такая же русоволосая, как мать, Ирина осталась на руках у отца. Критянин, покачивая ребенка, пошел вперед, с гордостью показывая Феодоре все, что было готово и ждало только его команды, - две палубы, вдоль бортов отверстия со скамьями для гребцов, каюту капитана-кентарха, две высокие мощные мачты, устремлявшиеся в синее небо, казавшееся опрокинутым морем…
Феодора, задрав голову, оглядела эти мачты и взглянула на мужа. Голова у нее кружилась, а сердце сжималось.
- Только паруса осталось поставить, и хоть завтра выходи...
Леонард кивнул, сияя от счастья.
- Лучший из моих кораблей, даже лучше "Константина Победоносного", - сказал критянин. – Я его строил для борьбы со всеми морями и ветрами на свете! Хочу посмотреть на ваших мореплавателей и проверить на прочность их суда!
- У нас никогда не было таких великих мореходов, как у вас, - усмехнулась московитка.- Мы сильны другим…
Потом она вздохнула и улыбнулась.
- Пахнет, как дома в лесу.
- Да, - согласился Леонард: и Феодора не стала спрашивать, откуда он знает, как пахнет в русских лесах.
Неожиданная мысль о том, что Леонард строил "Василиссу Феодору", чтобы завязать долгую торговлю с Русью, как в стародавние времена, оказалась очень утешительна. Пусть даже критянину это будет далеко не так выгодно, как греческим эпархам и царевым мужам в Константинополе, где они могли ставить русским купцам свои условия и назначать цены.
Породниться с землей своей жены для Леонарда стало самой насущной потребностью.
Феодора не сомневалась, что ее грек будет принят в Московии хорошо, как русские люди всегда принимали у себя и ромеев, и других иноземцев: пока те шли с миром.
Леонард, обнимая за плечи, свел жену на берег и передал ей дочку.
- Поезжайте домой… я скоро буду. Или, если хочешь, вас подвезут.
Он бросил взгляд на Магдалину, которая в своем черном монашеском платке стояла поодаль – и, когда господа не видели, крестилась католическим крестом и что-то шептала, глядя на галеру.
- Нет, мы лучше верхом. Только подсади нас, - попросила Феодора.
Для венецианцев было все еще в диковинку видеть мать с младенцем верхом на лошади, а не пешком и не в экипаже: если это была знатная дама, к каким причисляла себя жена комеса Флатанелоса. Но итальянцам недолго осталось дивиться такому зрелищу.
Леонард бережно подсадил московитку на спину Борея, а потом подал ей дочку. Улыбнулся, незаметно от остальных задержав руку на колене жены.
- Я скоро, любимая.
Феодора улыбнулась мужу, а сама подумала, что дома сесть на лошадь у всех на глазах будет никак нельзя… если Борей переживет это плавание. Хотя одна ли Москва есть на свете, и одна ли византийская строгость? Теперь, когда рабыня Желань знатная госпожа, она сможет поездить по Руси, на воле, где разные порядки… ее муж только похвалит за это.
Добравшись до дома, Феодора пошла с Ириной в спальню: Магдалину еще пришлось ждать, она поехала в экипаже вместо своей госпожи. И, конечно, итальянка будет недовольна поведением хозяйки.
Но сейчас Феодора думала не об этом, а о том, что в спальне этого венецианского дома у нее совсем недавно было последнее любовное свидание с Феофано. Последнее слияние душ, высшее выражение женской любви и дружества, которого никто больше не поймет… а на Руси тем паче никто не поймет.
Когда вошел муж, Феодора не повернулась к нему, глядя в высокое полукруглое окно в толстой беленой стене, - напротив этого окна висела давным-давно привезенная Леонардом икона, которая видела все, что было между ней и царицей. И этот византийский бог все им прощал…
Московитка услышала, как Леонард склонился над дочерью: зашелестели покрывала постели и скрипнули половицы под его весом, как критянин ни старался не шуметь. Потом комес подошел к жене со спины.
Он только обнял Феодору за талию, но ничего ей не сказал; она дрогнула, но не оттолкнула критянина. Феодора могла бы оттолкнуть его в такую минуту, несмотря на то, что комес Флатанелос был ее супруг, господин и отец ее детей.
Московитка повернулась к мужу и посмотрела в его глаза – и прочла в карих глазах грека, как он благодарен ей за все. Немного найдешь таких мужей: где бы то ни было… с остальными мужчинами всем женщинам постоянно нужна неженскость. Нужно постоянное преодоление своей женскости, чтобы не превратиться в рабов: как превосходящей силы мужчин, так и их образа мыслей.
"Феофано говорила, что каждая женщина, чтобы не умереть духом, должна всегда поддерживать в себе неженское… я бы сказала иначе: каждая женщина должна быть вечной жрицей огня своей души. Как бы ни был слаб этот огонь. И так же, как древнюю жрицу, каждую жену ждет смерть, если она нарушит свои обеты".
Царица амазонок очень нужна своим подданным – и ей очень нужны ее подданные по всему миру.
Прощальный вечер был устроен в доме Флатанелосов – и на него, само собой, приехала вся семья Дионисия Аммония, еще несколько римских и венецианских друзей Леонарда – и Феофано со своим сыном и незаконным мужем.
Феофано еще поедет с ними до Венеции – и сейчас, поглядывая на свою великолепную подругу, Феодора сдерживала печаль, зная, что последний миг еще далек. Нет: совсем не так далек… но наступит не сейчас. Еще не сейчас.
Они пили легкое душистое вино, играла музыка; люди вокруг разговаривали и смеялись, даже ее муж, хозяин дома, смеялся с остальными. Как он мог?
Вокруг были все, кого Феодора любила, - все, кого она полюбила на чужбине и кто сражался вместе с нею за их общую греческую веру и свободу; но видела перед собою московитка только одно лицо. Феофано, казалось, тоже не видела больше никого, кроме своей возлюбленной.
В зале шумели все дети Феодоры и чужие дети разных возрастов – но московитка наконец обратила внимание только на одного.
- Вард, - она шепнула старшему сыну, красивому и сильному юноше, и Вард тут же подошел. Он склонился к матери, ожидая какой-то особой просьбы.
- Сынок, ты можешь мне нарисовать царицу… Феофано? – тихо попросила Феодора. – Ты ведь хорошо рисуешь людей.
Это была правда: Вард, в котором проснулся не только талант моряка, но и такой же настоящий греческий талант к искусству, стал прекрасным художником, который хватался за уголь и бумагу всегда, когда бывал свободен. Феодора горько упрекнула себя, что не попросила этого раньше. Может быть, не могла, чувствуя, что Вард догадается о причине.
Сын посмотрел ей в глаза карими глазами комеса Флатанелоса, и Феодора поняла, что Вард догадался о причине. И, по-видимому, давно…
- Пожалуйста, - повторила мать сыну.
- Хорошо, мама, - сказал юноша.
Он вдруг улыбнулся ей, хотя мать этого не ожидала. Сколько понял старший сын Фомы Нотараса? Может быть, даже и все.
Ее любимец сразу же ушел – приглядеться к царице со стороны, пока у него была такая возможность; и, может быть, приступить к работе немедленно.
Мардоний, сидевший рядом со своей Рафаэлой, проводил Варда взглядом, потом посмотрел на своего евнуха. Потом сочувственно взглянул на хозяйку.
Молодой македонец увозил с собой все, что любил, - хотя сейчас никто не мог сказать, как уживутся между собою в Московии все его привязанности.
В рыжей Рафаэле Моро тоже горел огонь, которого мужчины не потушили.
После праздника Феодора одна сходила на могилу Фомы Нотараса и принесла ему цветы. Она присела прямо на землю посреди этого поля и долго сидела, опустив голову, думая о Фоме и Феофано, - амазонки не раз бывали на могиле патрикия вдвоем, но сейчас не могли оставаться вдвоем. Это было слишком мучительно, как будто разрыв уже совершился.
В порту Феофано впервые с прощального вечера заговорила со своей филэ – впервые заговорила с остальными, как будто наконец удостоила их своих слов.
- Ты позволишь, комес Флатанелос?
Лакедемонянка, одетая, как всегда в последнее время, с вызовом, - на турецко-персидский манер, - запустила руку в свой пояс, расшитый золотыми монетами и, наверное, содержащий тоже немало ценностей. Критянин, еще не зная, о чем пойдет речь, склонил голову.
И Феофано достала из своего пояса… кольцо. Серебряное кольцо с треугольным камнем, пурпурным гиацинтом: ярким, будто кровь или вино.
- Я заказала этот перстень здесь, - сказала гречанка. – Никто в Италии не понял его значения… но ты поймешь. Дай руку, моя любовь.
Феодора медленно протянула левую руку – на правой было золотое обручальное кольцо…
Московитка почувствовала, как царица надела ей кольцо, - и увидела, как Феофано показывает ей такое же кольцо на своей руке, только из золота. Московитка ощутила постыдное, жгучее - освободительное и ослепительное счастье. На глазах у всех, на глазах у мужа Феофано повенчалась со своей возлюбленной, и амазонки без слов принесли друг другу ненарушимую клятву верности.
Феодора, не в силах ничего сказать, смаргивая навернувшиеся от ветра слезы, погладила треугольный камень. Она знала, что это за знак, - его носили греческие гетеры, подруги мужчин, самые свободные из греческих жен…
Теперь, когда после Александра Великого столько народов запада объединил новый великий греческий бог, должно совершиться и новое объединение жен: много больше того, что существовало в древней Элладе. Жены должны объединиться по-новому: развитие вышло на новый виток, и история мощно увлекала с собою вперед всех, согласных и несогласных.
Подданные великой империи западных женщин, столь же разрозненной, как Византия, столь же нуждались в сильных вождях…
- Вперед, империя…Вперед! – прошептала московитка по-гречески.
Феофано посмотрела ей в глаза бесконечно долгим взглядом - и кивнула. А потом притянула подругу в свои сильные, горячие и душистые объятия. Они не размыкали объятий очень долго – единая душа в двух телах, которой они стали, никак не желала разорвать себя на части…
Потом Феодора высвободилась – она ничего не видела от слез; московитка отвернулась от царицы и оперлась на руку мужа. Он поспешно повел ее прочь. Леонард помогал ей подниматься по сходням, потом крепкие руки других мужчин подхватили ее сверху и втянули на палубу "Василиссы Феодоры". Василисса Феодора уже никогда не восцарствует…
Еще два корабля критянина были готовы к отплытию – Леонард Флатанелос опять, как в Византии, стал начальствовать несколькими судами: и выходить в открытое море в одиночку, да еще отправляться в такой долгий путь, было слишком опасно.
Жена комеса, неимоверным усилием взяв себя в руки, проверила, все ли уже на борту: не забыли ли, не дай бог, кого-нибудь из детей. И только уверившись, что вся семья с ней, Феодора повернулась к берегу.
Опять набежали слезы. Она несколько раз моргнула, и в глазах прояснилось: московитка увидела высокую фигуру Феофано, ее по-самаркандски пестрое, алое с зеленым, платье с золотой каймой и золотой прошивкой, но лица подруги рассмотреть уже не могла. Было уже далеко, и лицо гречанки застилали длинные волнистые черные волосы, которые Феофано распустила в знак печали – и в знак свободы.
Феодора подняла руку, и увидела, как лакедемонянка подняла руку в ответ. Московитке хотелось опуститься на колени и зарыдать от чувства безвозвратной потери: она сейчас поняла всем существом, что никогда больше не увидит Феофано в живых, даже если еще вернется в Италию. Но русская пленница стояла очень прямо, подняв руку в прощальном жесте, пока фигура последней лаконской царицы еще была различима на берегу, среди других, чужих, людей.
И только потом московитка опустилась на колени и безутешно заплакала, закрыв лицо руками.
"Василисса Феодора" возродилась к жизни.
Леонард Флатанелос, наняв самых искусных плотников и подгоняя рабочих, необыкновенно быстро построил для путешествия новую галеру, которая почти в точности повторяла тот, погибший у Прота, корабль: только сделана была не из кедра, а из прочнейшего северного дуба. Леонард целые часы проводил на венецианской верфи, как когда-то – в Золотом Роге; а его русская жена, с маленькой дочкой на коленях, сидела рядом на распиленном бревне, с удовольствием вдыхая запах морской соли и нутряной запах свежего дерева. Стук молотков, скрежет пил и громкая греческая речь, в которой слышались то перебранка, то взрывы смеха, были по сердцу и ей, и ребенку, который совсем не капризничал.
Леонард, улучив минуту, подошел к Феодоре; он так и сиял. Протянул руки сразу и матери, и дочери.
- Идемте, мои дорогие, я вам все покажу.
Феодора хотела принять руку мужа; но он стремительным движением подхватил на руки обеих своих женщин. Московитка засмеялась, обхватив комеса за шею; вырываться было бесполезно. Но Леонард сам знал, когда отпустить свою подругу.
Комес поднялся с ней и с дочкой по сходням и поставил жену на палубу: такая же русоволосая, как мать, Ирина осталась на руках у отца. Критянин, покачивая ребенка, пошел вперед, с гордостью показывая Феодоре все, что было готово и ждало только его команды, - две палубы, вдоль бортов отверстия со скамьями для гребцов, каюту капитана-кентарха, две высокие мощные мачты, устремлявшиеся в синее небо, казавшееся опрокинутым морем…
Феодора, задрав голову, оглядела эти мачты и взглянула на мужа. Голова у нее кружилась, а сердце сжималось.
- Только паруса осталось поставить, и хоть завтра выходи...
Леонард кивнул, сияя от счастья.
- Лучший из моих кораблей, даже лучше "Константина Победоносного", - сказал критянин. – Я его строил для борьбы со всеми морями и ветрами на свете! Хочу посмотреть на ваших мореплавателей и проверить на прочность их суда!
- У нас никогда не было таких великих мореходов, как у вас, - усмехнулась московитка.- Мы сильны другим…
Потом она вздохнула и улыбнулась.
- Пахнет, как дома в лесу.
- Да, - согласился Леонард: и Феодора не стала спрашивать, откуда он знает, как пахнет в русских лесах.
Неожиданная мысль о том, что Леонард строил "Василиссу Феодору", чтобы завязать долгую торговлю с Русью, как в стародавние времена, оказалась очень утешительна. Пусть даже критянину это будет далеко не так выгодно, как греческим эпархам и царевым мужам в Константинополе, где они могли ставить русским купцам свои условия и назначать цены.
Породниться с землей своей жены для Леонарда стало самой насущной потребностью.
Феодора не сомневалась, что ее грек будет принят в Московии хорошо, как русские люди всегда принимали у себя и ромеев, и других иноземцев: пока те шли с миром.
Леонард, обнимая за плечи, свел жену на берег и передал ей дочку.
- Поезжайте домой… я скоро буду. Или, если хочешь, вас подвезут.
Он бросил взгляд на Магдалину, которая в своем черном монашеском платке стояла поодаль – и, когда господа не видели, крестилась католическим крестом и что-то шептала, глядя на галеру.
- Нет, мы лучше верхом. Только подсади нас, - попросила Феодора.
Для венецианцев было все еще в диковинку видеть мать с младенцем верхом на лошади, а не пешком и не в экипаже: если это была знатная дама, к каким причисляла себя жена комеса Флатанелоса. Но итальянцам недолго осталось дивиться такому зрелищу.
Леонард бережно подсадил московитку на спину Борея, а потом подал ей дочку. Улыбнулся, незаметно от остальных задержав руку на колене жены.
- Я скоро, любимая.
Феодора улыбнулась мужу, а сама подумала, что дома сесть на лошадь у всех на глазах будет никак нельзя… если Борей переживет это плавание. Хотя одна ли Москва есть на свете, и одна ли византийская строгость? Теперь, когда рабыня Желань знатная госпожа, она сможет поездить по Руси, на воле, где разные порядки… ее муж только похвалит за это.
Добравшись до дома, Феодора пошла с Ириной в спальню: Магдалину еще пришлось ждать, она поехала в экипаже вместо своей госпожи. И, конечно, итальянка будет недовольна поведением хозяйки.
Но сейчас Феодора думала не об этом, а о том, что в спальне этого венецианского дома у нее совсем недавно было последнее любовное свидание с Феофано. Последнее слияние душ, высшее выражение женской любви и дружества, которого никто больше не поймет… а на Руси тем паче никто не поймет.
Когда вошел муж, Феодора не повернулась к нему, глядя в высокое полукруглое окно в толстой беленой стене, - напротив этого окна висела давным-давно привезенная Леонардом икона, которая видела все, что было между ней и царицей. И этот византийский бог все им прощал…
Московитка услышала, как Леонард склонился над дочерью: зашелестели покрывала постели и скрипнули половицы под его весом, как критянин ни старался не шуметь. Потом комес подошел к жене со спины.
Он только обнял Феодору за талию, но ничего ей не сказал; она дрогнула, но не оттолкнула критянина. Феодора могла бы оттолкнуть его в такую минуту, несмотря на то, что комес Флатанелос был ее супруг, господин и отец ее детей.
Московитка повернулась к мужу и посмотрела в его глаза – и прочла в карих глазах грека, как он благодарен ей за все. Немного найдешь таких мужей: где бы то ни было… с остальными мужчинами всем женщинам постоянно нужна неженскость. Нужно постоянное преодоление своей женскости, чтобы не превратиться в рабов: как превосходящей силы мужчин, так и их образа мыслей.
"Феофано говорила, что каждая женщина, чтобы не умереть духом, должна всегда поддерживать в себе неженское… я бы сказала иначе: каждая женщина должна быть вечной жрицей огня своей души. Как бы ни был слаб этот огонь. И так же, как древнюю жрицу, каждую жену ждет смерть, если она нарушит свои обеты".
Царица амазонок очень нужна своим подданным – и ей очень нужны ее подданные по всему миру.
Прощальный вечер был устроен в доме Флатанелосов – и на него, само собой, приехала вся семья Дионисия Аммония, еще несколько римских и венецианских друзей Леонарда – и Феофано со своим сыном и незаконным мужем.
Феофано еще поедет с ними до Венеции – и сейчас, поглядывая на свою великолепную подругу, Феодора сдерживала печаль, зная, что последний миг еще далек. Нет: совсем не так далек… но наступит не сейчас. Еще не сейчас.
Они пили легкое душистое вино, играла музыка; люди вокруг разговаривали и смеялись, даже ее муж, хозяин дома, смеялся с остальными. Как он мог?
Вокруг были все, кого Феодора любила, - все, кого она полюбила на чужбине и кто сражался вместе с нею за их общую греческую веру и свободу; но видела перед собою московитка только одно лицо. Феофано, казалось, тоже не видела больше никого, кроме своей возлюбленной.
В зале шумели все дети Феодоры и чужие дети разных возрастов – но московитка наконец обратила внимание только на одного.
- Вард, - она шепнула старшему сыну, красивому и сильному юноше, и Вард тут же подошел. Он склонился к матери, ожидая какой-то особой просьбы.
- Сынок, ты можешь мне нарисовать царицу… Феофано? – тихо попросила Феодора. – Ты ведь хорошо рисуешь людей.
Это была правда: Вард, в котором проснулся не только талант моряка, но и такой же настоящий греческий талант к искусству, стал прекрасным художником, который хватался за уголь и бумагу всегда, когда бывал свободен. Феодора горько упрекнула себя, что не попросила этого раньше. Может быть, не могла, чувствуя, что Вард догадается о причине.
Сын посмотрел ей в глаза карими глазами комеса Флатанелоса, и Феодора поняла, что Вард догадался о причине. И, по-видимому, давно…
- Пожалуйста, - повторила мать сыну.
- Хорошо, мама, - сказал юноша.
Он вдруг улыбнулся ей, хотя мать этого не ожидала. Сколько понял старший сын Фомы Нотараса? Может быть, даже и все.
Ее любимец сразу же ушел – приглядеться к царице со стороны, пока у него была такая возможность; и, может быть, приступить к работе немедленно.
Мардоний, сидевший рядом со своей Рафаэлой, проводил Варда взглядом, потом посмотрел на своего евнуха. Потом сочувственно взглянул на хозяйку.
Молодой македонец увозил с собой все, что любил, - хотя сейчас никто не мог сказать, как уживутся между собою в Московии все его привязанности.
В рыжей Рафаэле Моро тоже горел огонь, которого мужчины не потушили.
После праздника Феодора одна сходила на могилу Фомы Нотараса и принесла ему цветы. Она присела прямо на землю посреди этого поля и долго сидела, опустив голову, думая о Фоме и Феофано, - амазонки не раз бывали на могиле патрикия вдвоем, но сейчас не могли оставаться вдвоем. Это было слишком мучительно, как будто разрыв уже совершился.
В порту Феофано впервые с прощального вечера заговорила со своей филэ – впервые заговорила с остальными, как будто наконец удостоила их своих слов.
- Ты позволишь, комес Флатанелос?
Лакедемонянка, одетая, как всегда в последнее время, с вызовом, - на турецко-персидский манер, - запустила руку в свой пояс, расшитый золотыми монетами и, наверное, содержащий тоже немало ценностей. Критянин, еще не зная, о чем пойдет речь, склонил голову.
И Феофано достала из своего пояса… кольцо. Серебряное кольцо с треугольным камнем, пурпурным гиацинтом: ярким, будто кровь или вино.
- Я заказала этот перстень здесь, - сказала гречанка. – Никто в Италии не понял его значения… но ты поймешь. Дай руку, моя любовь.
Феодора медленно протянула левую руку – на правой было золотое обручальное кольцо…
Московитка почувствовала, как царица надела ей кольцо, - и увидела, как Феофано показывает ей такое же кольцо на своей руке, только из золота. Московитка ощутила постыдное, жгучее - освободительное и ослепительное счастье. На глазах у всех, на глазах у мужа Феофано повенчалась со своей возлюбленной, и амазонки без слов принесли друг другу ненарушимую клятву верности.
Феодора, не в силах ничего сказать, смаргивая навернувшиеся от ветра слезы, погладила треугольный камень. Она знала, что это за знак, - его носили греческие гетеры, подруги мужчин, самые свободные из греческих жен…
Теперь, когда после Александра Великого столько народов запада объединил новый великий греческий бог, должно совершиться и новое объединение жен: много больше того, что существовало в древней Элладе. Жены должны объединиться по-новому: развитие вышло на новый виток, и история мощно увлекала с собою вперед всех, согласных и несогласных.
Подданные великой империи западных женщин, столь же разрозненной, как Византия, столь же нуждались в сильных вождях…
- Вперед, империя…Вперед! – прошептала московитка по-гречески.
Феофано посмотрела ей в глаза бесконечно долгим взглядом - и кивнула. А потом притянула подругу в свои сильные, горячие и душистые объятия. Они не размыкали объятий очень долго – единая душа в двух телах, которой они стали, никак не желала разорвать себя на части…
Потом Феодора высвободилась – она ничего не видела от слез; московитка отвернулась от царицы и оперлась на руку мужа. Он поспешно повел ее прочь. Леонард помогал ей подниматься по сходням, потом крепкие руки других мужчин подхватили ее сверху и втянули на палубу "Василиссы Феодоры". Василисса Феодора уже никогда не восцарствует…
Еще два корабля критянина были готовы к отплытию – Леонард Флатанелос опять, как в Византии, стал начальствовать несколькими судами: и выходить в открытое море в одиночку, да еще отправляться в такой долгий путь, было слишком опасно.
Жена комеса, неимоверным усилием взяв себя в руки, проверила, все ли уже на борту: не забыли ли, не дай бог, кого-нибудь из детей. И только уверившись, что вся семья с ней, Феодора повернулась к берегу.
Опять набежали слезы. Она несколько раз моргнула, и в глазах прояснилось: московитка увидела высокую фигуру Феофано, ее по-самаркандски пестрое, алое с зеленым, платье с золотой каймой и золотой прошивкой, но лица подруги рассмотреть уже не могла. Было уже далеко, и лицо гречанки застилали длинные волнистые черные волосы, которые Феофано распустила в знак печали – и в знак свободы.
Феодора подняла руку, и увидела, как лакедемонянка подняла руку в ответ. Московитке хотелось опуститься на колени и зарыдать от чувства безвозвратной потери: она сейчас поняла всем существом, что никогда больше не увидит Феофано в живых, даже если еще вернется в Италию. Но русская пленница стояла очень прямо, подняв руку в прощальном жесте, пока фигура последней лаконской царицы еще была различима на берегу, среди других, чужих, людей.
И только потом московитка опустилась на колени и безутешно заплакала, закрыв лицо руками.
Re: Ставрос
Глава 170
- Как похожа, - сказала Феодора благоговейно, придерживая два листа бумаги на столе обеими руками. Качка была небольшая, но она никогда не простит себе, если эти рисунки слетят и хотя бы помнутся.
На одном из рисунков Вард изобразил Феофано в доспехе, полуантичном-полусовременном, очень похожем на тот, который она и вправду когда-то носила: панцирь и гребнистый шлем, поверх длинной туники и шаровар. Метаксия Калокир была верхом на лошади, с подъятым мечом, точно призывая свое войско к атаке.
Вторая картина изображала Метаксию Калокир в задумчивости за письменным столом, у полукруглого окна, – она, одетая в белый хитон, подобно Сафо, подносила к ярким полным губам стилос*. Обе картины, хотя и совсем разные, были полны страстного устремления.
Да, Вард Нотарас давно понял все об этой женщине и своей матери – его ум был достоин Фомы Нотараса.
- Чудесно, - сказал Леонард: в голосе критянина послышалась настоящая отцовская гордость приемным сыном. Сложив рисунки, он убрал их в стол, под раздвижную крышку.
Комес посмотрел на жену, сидевшую рядом с ним на турецком диване.
- Ты плачешь?..
Московитка кивнула.
- Плачу. Опять, - прошептала она.
Они были вдвоем в каюте кентарха, и могли говорить совершенно свободно. Леонард молча обнял жену.
- Прости.
- Я еще долго буду плакать, думая о ней. Тебя не за что прощать, - сдавленно ответила Феодора. – А вот я – прощу ли себя?
Леонард кивнул.
- Ты упрекаешь себя в этом до сих пор… думаешь, как скажется ваша любовь на детях и на твоих сородичах, - сказал он.
Феодора не отвечала, и комес продолжил.
- Я по-прежнему люблю тебя больше всего на свете, - проговорил критянин.
Феодора быстро и виновато взглянула на мужа, но он говорил ласково, без всякого упрека. – Я прекрасно тебя понимаю, - продолжил критянин: он мягко улыбнулся. – Позволь мне самому высказать, что тебя гложет… позволь порассуждать так, как ты сама бы это делала.
Феодора кивнула.
- Малообразованные люди преобладают везде, - сказал Леонард. – То, что случается между образованной знатью и не предназначено для низших, проходит мимо них… и ваших простых людей, ваш народ, как я убеждаюсь уже долгие годы, глядя на тебя и твоих сородичей, отличает большая цельность и сплоченность, как и здоровое нравственное чувство. Увы, грекам этих качеств уже давно недостает.
Комес печально улыбнулся.
- Но простым русичам Московии ваш с Феофано пример не повредил бы, даже если бы они узнали о нем. К тому же, этого не случится: их ваша любовь не коснется вовсе.
Он прервался.
- А те из твоих сородичей, кто достаточно разовьется, чтобы понять тебя, сможет уже разумом отделять зерна от плевел. Мужчин вы своим примером не совратите, потому что вы женщины, - тут он улыбнулся. – Ты заметила, дорогая, сколько раз в Библии проклинаются мужеложники, и лишь раз упоминаются женщины, "заменившие естественное употребление противоестественным"*? Содомия несравненно более пагубна, как и гораздо более нездорова, чем женская любовь, что, я думаю, не нуждается в объяснениях.
Леонард поморщился.
- Мне всегда казалось, что эротическое чувство между женщинами естественнее влечения мужчин друг к другу: может быть, потому, что моя родина Крит… Ваше чувство и гораздо более духовно, и более богато, чем у мужеложников.
Леонард поцеловал жену.
- А что до женщин, которые узнают о вас, - среди ваших сестер немного столь страстных, как Метаксия Калокир. Женщины гораздо более осторожны и привержены принятой морали. Ваши с Феофано идеи достойны увековечения, я всегда так считал, - задумчиво продолжил он. – Думаю, что на ваших последовательниц могут сильно подействовать ваши идеи, но ваша любовь их едва ли затронет. Ну, разве что ненадолго возбудит чувственное любопытство, в чем я не вижу ничего дурного.
Феодора слабо улыбнулась.
- А если между какими-нибудь редкими женщинами возникнет настоящая любовь, как между вами, она только поможет им лучше познать свою природу и природу мужчин, - убежденно заключил Леонард Флатанелос. - Остальным же ваши с Феофано прижизненные труды дадут основание для дружбы и отстаивания себя, какого до сих пор женщины не имели… Я полагаю, что все умные и самостоятельные женские мысли сейчас на вес золота.
Феодора признательно взглянула на мужа, потом встала с дивана. Она прошлась по ковру; подойдя к стене, провела рукой по голубой шелковой обивке, расписанной крылатыми райскими девами и птицами, как шатер султана.
Московитка повернулась к мужу, который остался сидеть.
- Мне кажется, причина разброда наших страстей и мыслей в том, что мы все уже так давно живем вне церкви… вне нашей православной и любой другой… не считая Мардония, которого римляне принудили к католичеству, но только наружно.
Леонард улыбнулся.
- Тебе было так плохо без церкви? – спросил он. – Я месяцами, когда бывал в плавании и в путешествиях, не видел никаких церквей и никаких священников. И нисколько не страдал от их отсутствия. Мне кажется, мы только освободились от обременительной и ненужной обрядности.
Критянин встал, расправил грудь, на которой так и не появилось креста.
- Море в полной мере дает почувствовать мелочность людей… Бог выше всего этого, любимая. Я не соблюдал никаких обрядов, правя своими кораблями, и всегда находил землю, к которой стремился. Я пришел на помощь своей родине в труднейший час, хотя никакой человек в рясе не благословлял меня на это! Так и ты, плавая в житейском море, уже давно не нуждаешься ни в каком церковном диктате.
Леонард усмехнулся и покачал курчавой головой: стукнули друг о друга драгоценные заколки.
- Право, этот образ мыслей, называемый христианским, всегда вызывал у меня отвращение… стяжать себе вечное блаженство в награду за то, что всю жизнь жил как овца!
Феодора засмеялась.
- Мне еще Фома рассказывал… мне рассказали у вас, - поправилась она под пронзительным взглядом мужа, - что у нас на Руси в языческие времена рабов хоронили в ином положении, нежели воинов: чтобы и после смерти те оставались в рабстве. Такие люди больше и не выслужили… это мне кажется куда честнее, чем христианское смирение.
Потом она вдруг по-детски прыснула.
- Подумать только, милый… пятьсот лет назад мы, дремучие язычники, ехали к вам за вашим Христом, а теперь я, христианка, побывав у вас в плену, везу на Русь ваших старых греческих богов!
Леонард громко засмеялся.
- В самом деле, так и есть! Что ж, значит, время пришло. Сам Христос говорил, что не след наливать молодое вино в ветхие мехи*…
Феодора вдруг подошла к нему и положила руки на плечи.
- Но помни, критянин, что у нас еще не бывало великих мореходов, как и великих философов, - предупредила московитка. - Мехи еще не так обветшали, как может показаться нам с тобой.
- Когда-нибудь и мореходы, и философы появятся… не так долго ждать, - ответил Леонард Флатанелос.
Они поцеловались, и долго стояли обнявшись – Феодора прижималась головой к груди мужа. Потом она высвободилась, вспомнив, что ей нужно к дочери и к другим детям.
Они с Леонардом не так часто бывали наедине - теперь, когда на нем все время лежали важнейшие обязанности; но когда уединялись, супруги забывали обо всех остальных.
Леонард отпустил жену, вспомнив, что и ему нужно идти. Опасные воды они миновали, и после многих утомительных дней плавания близился берег, близилась самая главная минута для всех: потому-то Феодоре и захотелось исповедоваться мужу.
Когда муж ушел, Феодора покинула каюту кентарха и спустилась под палубу – туда, где были дети с нянькой. Она долго провозилась и с младшими, и со старшими. После детей московитка сразу же пошла в трюм, проведать лошадей: она всю дорогу самолично ухаживала за своим Бореем. Любимый арабский гнедой был уже немолод и никогда еще не застаивался по стольку дней подряд в неподвижности, в корабельной качке и сырости.
Феодора кормила коня с руки пшеницей, когда над головой послышался заглушенный крик:
- Земля! Земля!
Феодора ахнула и, рассыпав корм, подобрала юбки и побежала по лестнице наверх; она чуть не оступилась. Выскочив на палубу, русская пленница бросилась на нос, куда уже набились матросы и где был и Микитка со со своим несостоявшимся македонским возлюбленным. Все уже видели землю – матросы обнимались, галдели, смеялись, показывая друг другу вперед. Каждое успешное окончание столь длительного плавания было как победа в бою.
Феодора стояла неподвижно и безгласно, схватившись за канаты и глядя, как проясняется земля перед глазами. Ее одиссея окончилась.
* Палочка для письма для процарапывания на восковых табличках, употреблявшаяся в античности и в средневековье.
* Новый Завет (Послание к Римлянам).
* Евангелие от Матфея.
- Как похожа, - сказала Феодора благоговейно, придерживая два листа бумаги на столе обеими руками. Качка была небольшая, но она никогда не простит себе, если эти рисунки слетят и хотя бы помнутся.
На одном из рисунков Вард изобразил Феофано в доспехе, полуантичном-полусовременном, очень похожем на тот, который она и вправду когда-то носила: панцирь и гребнистый шлем, поверх длинной туники и шаровар. Метаксия Калокир была верхом на лошади, с подъятым мечом, точно призывая свое войско к атаке.
Вторая картина изображала Метаксию Калокир в задумчивости за письменным столом, у полукруглого окна, – она, одетая в белый хитон, подобно Сафо, подносила к ярким полным губам стилос*. Обе картины, хотя и совсем разные, были полны страстного устремления.
Да, Вард Нотарас давно понял все об этой женщине и своей матери – его ум был достоин Фомы Нотараса.
- Чудесно, - сказал Леонард: в голосе критянина послышалась настоящая отцовская гордость приемным сыном. Сложив рисунки, он убрал их в стол, под раздвижную крышку.
Комес посмотрел на жену, сидевшую рядом с ним на турецком диване.
- Ты плачешь?..
Московитка кивнула.
- Плачу. Опять, - прошептала она.
Они были вдвоем в каюте кентарха, и могли говорить совершенно свободно. Леонард молча обнял жену.
- Прости.
- Я еще долго буду плакать, думая о ней. Тебя не за что прощать, - сдавленно ответила Феодора. – А вот я – прощу ли себя?
Леонард кивнул.
- Ты упрекаешь себя в этом до сих пор… думаешь, как скажется ваша любовь на детях и на твоих сородичах, - сказал он.
Феодора не отвечала, и комес продолжил.
- Я по-прежнему люблю тебя больше всего на свете, - проговорил критянин.
Феодора быстро и виновато взглянула на мужа, но он говорил ласково, без всякого упрека. – Я прекрасно тебя понимаю, - продолжил критянин: он мягко улыбнулся. – Позволь мне самому высказать, что тебя гложет… позволь порассуждать так, как ты сама бы это делала.
Феодора кивнула.
- Малообразованные люди преобладают везде, - сказал Леонард. – То, что случается между образованной знатью и не предназначено для низших, проходит мимо них… и ваших простых людей, ваш народ, как я убеждаюсь уже долгие годы, глядя на тебя и твоих сородичей, отличает большая цельность и сплоченность, как и здоровое нравственное чувство. Увы, грекам этих качеств уже давно недостает.
Комес печально улыбнулся.
- Но простым русичам Московии ваш с Феофано пример не повредил бы, даже если бы они узнали о нем. К тому же, этого не случится: их ваша любовь не коснется вовсе.
Он прервался.
- А те из твоих сородичей, кто достаточно разовьется, чтобы понять тебя, сможет уже разумом отделять зерна от плевел. Мужчин вы своим примером не совратите, потому что вы женщины, - тут он улыбнулся. – Ты заметила, дорогая, сколько раз в Библии проклинаются мужеложники, и лишь раз упоминаются женщины, "заменившие естественное употребление противоестественным"*? Содомия несравненно более пагубна, как и гораздо более нездорова, чем женская любовь, что, я думаю, не нуждается в объяснениях.
Леонард поморщился.
- Мне всегда казалось, что эротическое чувство между женщинами естественнее влечения мужчин друг к другу: может быть, потому, что моя родина Крит… Ваше чувство и гораздо более духовно, и более богато, чем у мужеложников.
Леонард поцеловал жену.
- А что до женщин, которые узнают о вас, - среди ваших сестер немного столь страстных, как Метаксия Калокир. Женщины гораздо более осторожны и привержены принятой морали. Ваши с Феофано идеи достойны увековечения, я всегда так считал, - задумчиво продолжил он. – Думаю, что на ваших последовательниц могут сильно подействовать ваши идеи, но ваша любовь их едва ли затронет. Ну, разве что ненадолго возбудит чувственное любопытство, в чем я не вижу ничего дурного.
Феодора слабо улыбнулась.
- А если между какими-нибудь редкими женщинами возникнет настоящая любовь, как между вами, она только поможет им лучше познать свою природу и природу мужчин, - убежденно заключил Леонард Флатанелос. - Остальным же ваши с Феофано прижизненные труды дадут основание для дружбы и отстаивания себя, какого до сих пор женщины не имели… Я полагаю, что все умные и самостоятельные женские мысли сейчас на вес золота.
Феодора признательно взглянула на мужа, потом встала с дивана. Она прошлась по ковру; подойдя к стене, провела рукой по голубой шелковой обивке, расписанной крылатыми райскими девами и птицами, как шатер султана.
Московитка повернулась к мужу, который остался сидеть.
- Мне кажется, причина разброда наших страстей и мыслей в том, что мы все уже так давно живем вне церкви… вне нашей православной и любой другой… не считая Мардония, которого римляне принудили к католичеству, но только наружно.
Леонард улыбнулся.
- Тебе было так плохо без церкви? – спросил он. – Я месяцами, когда бывал в плавании и в путешествиях, не видел никаких церквей и никаких священников. И нисколько не страдал от их отсутствия. Мне кажется, мы только освободились от обременительной и ненужной обрядности.
Критянин встал, расправил грудь, на которой так и не появилось креста.
- Море в полной мере дает почувствовать мелочность людей… Бог выше всего этого, любимая. Я не соблюдал никаких обрядов, правя своими кораблями, и всегда находил землю, к которой стремился. Я пришел на помощь своей родине в труднейший час, хотя никакой человек в рясе не благословлял меня на это! Так и ты, плавая в житейском море, уже давно не нуждаешься ни в каком церковном диктате.
Леонард усмехнулся и покачал курчавой головой: стукнули друг о друга драгоценные заколки.
- Право, этот образ мыслей, называемый христианским, всегда вызывал у меня отвращение… стяжать себе вечное блаженство в награду за то, что всю жизнь жил как овца!
Феодора засмеялась.
- Мне еще Фома рассказывал… мне рассказали у вас, - поправилась она под пронзительным взглядом мужа, - что у нас на Руси в языческие времена рабов хоронили в ином положении, нежели воинов: чтобы и после смерти те оставались в рабстве. Такие люди больше и не выслужили… это мне кажется куда честнее, чем христианское смирение.
Потом она вдруг по-детски прыснула.
- Подумать только, милый… пятьсот лет назад мы, дремучие язычники, ехали к вам за вашим Христом, а теперь я, христианка, побывав у вас в плену, везу на Русь ваших старых греческих богов!
Леонард громко засмеялся.
- В самом деле, так и есть! Что ж, значит, время пришло. Сам Христос говорил, что не след наливать молодое вино в ветхие мехи*…
Феодора вдруг подошла к нему и положила руки на плечи.
- Но помни, критянин, что у нас еще не бывало великих мореходов, как и великих философов, - предупредила московитка. - Мехи еще не так обветшали, как может показаться нам с тобой.
- Когда-нибудь и мореходы, и философы появятся… не так долго ждать, - ответил Леонард Флатанелос.
Они поцеловались, и долго стояли обнявшись – Феодора прижималась головой к груди мужа. Потом она высвободилась, вспомнив, что ей нужно к дочери и к другим детям.
Они с Леонардом не так часто бывали наедине - теперь, когда на нем все время лежали важнейшие обязанности; но когда уединялись, супруги забывали обо всех остальных.
Леонард отпустил жену, вспомнив, что и ему нужно идти. Опасные воды они миновали, и после многих утомительных дней плавания близился берег, близилась самая главная минута для всех: потому-то Феодоре и захотелось исповедоваться мужу.
Когда муж ушел, Феодора покинула каюту кентарха и спустилась под палубу – туда, где были дети с нянькой. Она долго провозилась и с младшими, и со старшими. После детей московитка сразу же пошла в трюм, проведать лошадей: она всю дорогу самолично ухаживала за своим Бореем. Любимый арабский гнедой был уже немолод и никогда еще не застаивался по стольку дней подряд в неподвижности, в корабельной качке и сырости.
Феодора кормила коня с руки пшеницей, когда над головой послышался заглушенный крик:
- Земля! Земля!
Феодора ахнула и, рассыпав корм, подобрала юбки и побежала по лестнице наверх; она чуть не оступилась. Выскочив на палубу, русская пленница бросилась на нос, куда уже набились матросы и где был и Микитка со со своим несостоявшимся македонским возлюбленным. Все уже видели землю – матросы обнимались, галдели, смеялись, показывая друг другу вперед. Каждое успешное окончание столь длительного плавания было как победа в бою.
Феодора стояла неподвижно и безгласно, схватившись за канаты и глядя, как проясняется земля перед глазами. Ее одиссея окончилась.
* Палочка для письма для процарапывания на восковых табличках, употреблявшаяся в античности и в средневековье.
* Новый Завет (Послание к Римлянам).
* Евангелие от Матфея.
Re: Ставрос
Глава 171
"Три дня назад умер от простуды маленький Ираклий, младший сын Мардония: я так и знала, что он безнадежен. Я теперь редко пишу, и вот только собралась.
Нужно было видеть бедную Рафаэлу над мертвым сыном. Она на все лады проклинала нашу Русь, проклинала комеса – а как она поносила Микитку, кто бы послушал!
Мардоний сам был раздавлен смертью сына, а не то прибил бы ее: я никогда не сомневалась, что между ним и Микиткой самая высокая платоническая любовь, которой они никогда не грязнили. Разве что, может, поцеловались пару раз. Но Рафаэла, конечно, насмотрелась у себя в Италии на всякое непотребство, любовники-мужчины там совершенно не сдерживаются: с чего бы ей думать о муже иначе? А Микитку она может представить только наложником македонца, зная, что он скопец…
Хотя я даже не думаю судить Рафаэлу: вот несчастное существо, вот несчастная мать, у которой не осталось никакой опоры, кроме семьи мужа-еретика! У меня есть мои русы, и все мои греки, с которыми я сроднилась, как никогда не могла бы сродниться с итальянцами, - а у Рафаэлы никого нет! Только с Магдалиной она говорит, но мало: Магдалина теперь больше наша, чем итальянка.
Я заметила, что хотя Рафаэла разругала всех вокруг, мужа она бранить воздержалась: ведь ей жить с ним всю жизнь, и это не изменилось… Господи, помози.
Мардоний теперь опять утешается у Микитки, у Мардония тоже больше не осталось ни одной близкой души – а итальянке оттого еще хуже. Как бы она не отравила нашего бедного евнуха: с горя дочь Моро может такое сделать, и если что сотворит, Леонард вступится за нее, а не за Микитку. Комес очень хорошо мне объяснил, что думает о мужской любви… хотя если бы не эта мужская любовь, он никогда не получил бы меня, даже не увидел бы живой.
Мои Леонид и Теокл заслуживают памятника, и я его им поставлю, если только вернусь живой в Италию.
А Мардония винить последнее дело, он своей латинянке не изменял и всегда делал для нее сколько мог. Никто не виноват, и все друг друга поедом едят!
Что ж, один Бог властен здесь, как и во всем. Нужно успокоиться. Радоваться, чему можно… самый лучший совет и древних греков, и христианских священников. Грех уныния - худший из грехов.
Леонард сказал мне, что наши люди неулыбчивы, - мне и самой так кажется после Италии и Византии. Но у южных людей улыбка от солнышка: они не столько другим, сколько себе радуются… а когда улыбаемся мы, северяне, это от самого сердца. Леонард со мной согласился.
Десять дней назад выпал большой снег, и все мои греки удивлялись ему, как дети. Мой муж стойко переносит даже московский холод и ходит полураздетый… Феофано тоже была всегда горячая. Леонард со смехом заметил, что и среди наших мужчин много таких стойких, которые ходят полуголые. Я ему сказала в ответ, что у таких богатырей зимнего платья нет или берегут: оттого и закаляются.
Но меня и детей муж одел в меха с головы до ног, и правильно сделал: разлюбила я нашу зиму, отвыкла, а дети и вовсе никогда ее не знали. Я никогда не думала, что все здесь будет для меня такое чужое. Еще до того, как умер мальчик Рафаэлы, я просила Леонарда прокатить меня на санях до нашего подворья, где я служила девушкой, почти двадцать лет тому.
Боже ты мой!
Я как будто в первый раз сюда попала: ничего ни во дворе, ни в доме не могла узнать, ни одного лица не вспомнила. Меня когда заметили в моих санях, в гости позвали, с поклонами, с радостью… лицо у меня наше, русское, а платье хотя и заморское, но богатое. Думали, я своя боярыня – с мужем на торг или куда далече ездила и чудес навидалась и набралась…
Таких чудес понабралась, что никому здесь и не снилось.
Рабу Желань во мне никто не признал. Но лучше бы уж признали.
Я когда заговорила, все так рты и открыли: уставились на меня, как на гречанку. Я теперь и есть гречанка, и слуги у меня все греки: хотя с ними хозяева не разговаривали, оставили в людской. А про гибель Царьграда у нас давно все слышали-переслышали – про то, какие там теперь турецкие порядки, как будто своих грецких порядков не хватало.
Хозяева у меня всегда вежеством отличались, хотя теперь уже Козьма Симеонович умер, и подросли сыновья. Сын боярский с женой меня вежливо попотчевали, послушали, сколько я могла слов связать, и под белы руки проводили прочь. Больше не позовут: еще и другим наскажут.
Никто нигде не любит своих женщин, понабравшихся чужого, - да и чужих жен не слишком-то привечают, куда опасливей, чем мужчин-гостей!
Сейчас вот, когда пишу, смеюсь и плачу: неужто и вправду думала, глупая, что Русь мне так же прирастет к сердцу, как когда-то оторвалась?
Со мной на чужой земле все время были мои русские люди, они оставались для меня свои – но они потому оставались свои, что жили со мной и менялись вместе со мной! Даже Евдокия Хрисанфовна, которая мне была вместо матери, и та поменялась, на греческий, на итальянский лад! В Италии-то мне не видно было!
С нашими, с настоящими своими, я теперь двух слов сказать не могу… Леонард отвечает за нас всех, как делал всегда. Слава богу, что хоть язык наш выучил достаточно, чтобы почти не затрудняться. Когда бывает совсем трудно, я помогаю… Леонард как-то удивился, что здесь у нас нельзя говорить с женщинами. Сказал, что в Болгарии с этим было проще, а у нас на Руси как будто Персия, которую перенесли на север, - такое же затворничество.
Я согласилась, что терем есть терем, но войти туда можно, и есть много путей: только в каждый терем свои пути. Как на востоке – да ведь и в Византии так же было. Я сказала, что наши жены вовсе не рабыни, да Леонард и сам давно знает, каковы наши жены. Но мужчины их могут особенно беречь от нас, да жены и сами берегутся: потому что у них нет веры грекам… после того, как они ни себя, ни своего царства от туретчины не отстояли. А наш комес еще о какой-то философии говорил!
Леонард, конечно, оскорбился такими моими словами, но не возразил: он для этого слишком честен перед самим собой.
Но Леонард не упал духом: не таков мой герой. Он меня всегда удивлял и теперь не перестает. А Вард меня удивил еще больше… вот самая большая радость, и самая большая моя тревога.
Мой сын мне сказал, что хочет взять в жены русскую девушку – такую, как была я. И я вижу, что его с этого не сдвинешь… в кого только пошел упрямством, в отца или в отчима?
Я сыну ответила, что от всей души благословляю его на такое дело… хотя не так-то это и честно, вывозить девиц из Руси в жены чужестранцам, когда-нибудь потом от этого будет великая общая польза.
Я в это верю: иначе теперь не могу.
Только я сразу предупредила Варда, чтобы не подходил к богатым боярышням: впрочем, с теми заговорить почти и невозможно. Если сын хочет себе русскую девушку, пусть сватается к простой, хоть воспитаннице терема: такую легко подловить, что в церкви, что на базаре, как когда-то меня украли. Бедную будет даже и лучше. Наши простые девушки так же красивы, как знатные, и хотя доверчивы, но сметливы… а такая, которая при господах росла, и у себя дома виды видала. Если Вард жену хочет всему с начала учить, как Фома – меня, пусть берет такую, для которой будет заморским королевичем, и которая за грека и с греком с радостью пойдет…
Вард все понял, я знаю, – и заверил меня, что не оплошает.
Почти не сомневаюсь, что мой сын увезет отсюда невесту: и не сомневаюсь, что они будут счастливы, как мы с Леонардом. У невесты моего сына не будет Метаксии Калокир, и они заживут еще счастливее, чем мы с Леонардом… или нет? Но ничего лучшего для Варда, как и для любой его русской избранницы, я не пожелала бы.
Микитка тоже удивил. Он наконец нашел здесь друзей, умных и сердечных друзей, о которых всегда мечтал в плену, - так же страстно, как мечтал вернуть себе мужество. Владимир и Глеб тоже товарищей нашли: думаю, младшие сыны Евдокии Хрисанфовны скоро женятся здесь, и хорошо женятся. Вот кому бы вкоренять у нас греческую науку – я с нашими юношами поговорила по-хорошему, может, и займутся.
Микитка больше русский, чем я: он больше русского в себе сохранил. Может, потому, что никакая гречанка… и никакой грек не лишили его девства. Стыдно такое писать, а ведь правда: я давно с греками едина плоть и един дух. Ни любовь, ни блуд никогда без следа не проходят.
Мардоний мучается, видя, что он у своего евнуха уже не один свет в окошке, - а я очень рада за Микитку и очень за него боюсь. Мардоний ведь хочет с ним остаться! Ни жены ему не жалко, ни друга: Рафаэла ведь изведет Микитку из ревности, у нее духу хватит… а если нет, итальянка сама здесь насмерть простудится или второе дитя свое застудит. Им никогда к нашим зимам не привыкнуть, как и к нашему труду. Вот отчего русская сердечность идет: дорого нам наша жизнь достается.
Может, Микитка, разумник, и уговорит своего македонца уехать: или комес его силой увезет. Так только и осталось действовать. Оторвет от Мардония комес запретную любовь, как меня оторвал от Феофано.
Где-то теперь ты, моя любовь? Не наездишься, не находишься – разорвется сердце.
Если Мардоний уедет, он Микитку больше не увидит: это уж я говорю. Заедят его в Италии. Хотя всех нас там заедят, только дай слабину.
А я сейчас больше всего на свете хочу уехать – назад… домой. Даже если бы не хотела, нужно уехать: Вард может взять себе жену здесь и даже повенчаться у нас в Москве, чтобы потом увезти супругу с собой, а девочкам моим можно выйти замуж только за греков.
Помнится, госпожа Кассандра мне сказала в день смерти Анны: уезжай, тебе нечего больше здесь делать. Это она меня домой прогоняла, на Русь.
А теперь наконец у себя дома, в Москве, я когда иду по улицам с моими греками или еду, читаю на лицах у наших людей: уезжай, гречанка, ты чужая нам. Микитку приняли обратно, а меня назад уже не возьмут. Женщины когда меняются, меняются необратимо: как перепаханная земля…
Наши русские люди с нами сердечны, как всегда были, – но как с гостями.
Нужно опять пойти с Леонардом в Успенский собор*, помолиться… хотя того, что я хочу, православный бог не делает.
Больше всего на свете я хотела бы всю ту красоту, силу, чудеса, что я узнала у греков, перенести на нашу родную землю и здесь вкоренить. Как по-новому все эти богатства тогда расцветятся! Какую новую силу обретет греческая сила! Как наши народы напитают друг друга!
Если такое и сбудется, то не волею ветхого православного бога, и не при нашей жизни: но так хотелось бы знать, что мы жили и страдали не зря!
Где ты, Феофано? Твои глаза всего этого не увидят: пусть же тебе хотя бы приснится моя хоть и деревянная, а златоглавая государыня Москва. Что бы ты сказала о наших женщинах? Наверное, то же, что и Леонард: что они как персиянки, только северные. Видишь, как близки наши народы, – а обняться никак не могут!
Бог навеки разделил все народы и языки, когда ставили Вавилонскую башню, - куда ни пойди, придешь в древнюю Азию.
Теперь я лягу спать, и ко мне придет мой любимый муж: но пусть сегодня во сне я увижу тебя, филэ. Я бы к тебе на крыльях полетела через все моря.
Радуйся – радуйся без меня, если можешь".
* Имеется в виду собор Ивана I Калиты, стоявший на месте Успенского собора, возведенного под руководством итальянского зодчего Аристотеля Фиораванти. В 1471 году старый собор был предназначен к сносу из-за ветхости.
"Три дня назад умер от простуды маленький Ираклий, младший сын Мардония: я так и знала, что он безнадежен. Я теперь редко пишу, и вот только собралась.
Нужно было видеть бедную Рафаэлу над мертвым сыном. Она на все лады проклинала нашу Русь, проклинала комеса – а как она поносила Микитку, кто бы послушал!
Мардоний сам был раздавлен смертью сына, а не то прибил бы ее: я никогда не сомневалась, что между ним и Микиткой самая высокая платоническая любовь, которой они никогда не грязнили. Разве что, может, поцеловались пару раз. Но Рафаэла, конечно, насмотрелась у себя в Италии на всякое непотребство, любовники-мужчины там совершенно не сдерживаются: с чего бы ей думать о муже иначе? А Микитку она может представить только наложником македонца, зная, что он скопец…
Хотя я даже не думаю судить Рафаэлу: вот несчастное существо, вот несчастная мать, у которой не осталось никакой опоры, кроме семьи мужа-еретика! У меня есть мои русы, и все мои греки, с которыми я сроднилась, как никогда не могла бы сродниться с итальянцами, - а у Рафаэлы никого нет! Только с Магдалиной она говорит, но мало: Магдалина теперь больше наша, чем итальянка.
Я заметила, что хотя Рафаэла разругала всех вокруг, мужа она бранить воздержалась: ведь ей жить с ним всю жизнь, и это не изменилось… Господи, помози.
Мардоний теперь опять утешается у Микитки, у Мардония тоже больше не осталось ни одной близкой души – а итальянке оттого еще хуже. Как бы она не отравила нашего бедного евнуха: с горя дочь Моро может такое сделать, и если что сотворит, Леонард вступится за нее, а не за Микитку. Комес очень хорошо мне объяснил, что думает о мужской любви… хотя если бы не эта мужская любовь, он никогда не получил бы меня, даже не увидел бы живой.
Мои Леонид и Теокл заслуживают памятника, и я его им поставлю, если только вернусь живой в Италию.
А Мардония винить последнее дело, он своей латинянке не изменял и всегда делал для нее сколько мог. Никто не виноват, и все друг друга поедом едят!
Что ж, один Бог властен здесь, как и во всем. Нужно успокоиться. Радоваться, чему можно… самый лучший совет и древних греков, и христианских священников. Грех уныния - худший из грехов.
Леонард сказал мне, что наши люди неулыбчивы, - мне и самой так кажется после Италии и Византии. Но у южных людей улыбка от солнышка: они не столько другим, сколько себе радуются… а когда улыбаемся мы, северяне, это от самого сердца. Леонард со мной согласился.
Десять дней назад выпал большой снег, и все мои греки удивлялись ему, как дети. Мой муж стойко переносит даже московский холод и ходит полураздетый… Феофано тоже была всегда горячая. Леонард со смехом заметил, что и среди наших мужчин много таких стойких, которые ходят полуголые. Я ему сказала в ответ, что у таких богатырей зимнего платья нет или берегут: оттого и закаляются.
Но меня и детей муж одел в меха с головы до ног, и правильно сделал: разлюбила я нашу зиму, отвыкла, а дети и вовсе никогда ее не знали. Я никогда не думала, что все здесь будет для меня такое чужое. Еще до того, как умер мальчик Рафаэлы, я просила Леонарда прокатить меня на санях до нашего подворья, где я служила девушкой, почти двадцать лет тому.
Боже ты мой!
Я как будто в первый раз сюда попала: ничего ни во дворе, ни в доме не могла узнать, ни одного лица не вспомнила. Меня когда заметили в моих санях, в гости позвали, с поклонами, с радостью… лицо у меня наше, русское, а платье хотя и заморское, но богатое. Думали, я своя боярыня – с мужем на торг или куда далече ездила и чудес навидалась и набралась…
Таких чудес понабралась, что никому здесь и не снилось.
Рабу Желань во мне никто не признал. Но лучше бы уж признали.
Я когда заговорила, все так рты и открыли: уставились на меня, как на гречанку. Я теперь и есть гречанка, и слуги у меня все греки: хотя с ними хозяева не разговаривали, оставили в людской. А про гибель Царьграда у нас давно все слышали-переслышали – про то, какие там теперь турецкие порядки, как будто своих грецких порядков не хватало.
Хозяева у меня всегда вежеством отличались, хотя теперь уже Козьма Симеонович умер, и подросли сыновья. Сын боярский с женой меня вежливо попотчевали, послушали, сколько я могла слов связать, и под белы руки проводили прочь. Больше не позовут: еще и другим наскажут.
Никто нигде не любит своих женщин, понабравшихся чужого, - да и чужих жен не слишком-то привечают, куда опасливей, чем мужчин-гостей!
Сейчас вот, когда пишу, смеюсь и плачу: неужто и вправду думала, глупая, что Русь мне так же прирастет к сердцу, как когда-то оторвалась?
Со мной на чужой земле все время были мои русские люди, они оставались для меня свои – но они потому оставались свои, что жили со мной и менялись вместе со мной! Даже Евдокия Хрисанфовна, которая мне была вместо матери, и та поменялась, на греческий, на итальянский лад! В Италии-то мне не видно было!
С нашими, с настоящими своими, я теперь двух слов сказать не могу… Леонард отвечает за нас всех, как делал всегда. Слава богу, что хоть язык наш выучил достаточно, чтобы почти не затрудняться. Когда бывает совсем трудно, я помогаю… Леонард как-то удивился, что здесь у нас нельзя говорить с женщинами. Сказал, что в Болгарии с этим было проще, а у нас на Руси как будто Персия, которую перенесли на север, - такое же затворничество.
Я согласилась, что терем есть терем, но войти туда можно, и есть много путей: только в каждый терем свои пути. Как на востоке – да ведь и в Византии так же было. Я сказала, что наши жены вовсе не рабыни, да Леонард и сам давно знает, каковы наши жены. Но мужчины их могут особенно беречь от нас, да жены и сами берегутся: потому что у них нет веры грекам… после того, как они ни себя, ни своего царства от туретчины не отстояли. А наш комес еще о какой-то философии говорил!
Леонард, конечно, оскорбился такими моими словами, но не возразил: он для этого слишком честен перед самим собой.
Но Леонард не упал духом: не таков мой герой. Он меня всегда удивлял и теперь не перестает. А Вард меня удивил еще больше… вот самая большая радость, и самая большая моя тревога.
Мой сын мне сказал, что хочет взять в жены русскую девушку – такую, как была я. И я вижу, что его с этого не сдвинешь… в кого только пошел упрямством, в отца или в отчима?
Я сыну ответила, что от всей души благословляю его на такое дело… хотя не так-то это и честно, вывозить девиц из Руси в жены чужестранцам, когда-нибудь потом от этого будет великая общая польза.
Я в это верю: иначе теперь не могу.
Только я сразу предупредила Варда, чтобы не подходил к богатым боярышням: впрочем, с теми заговорить почти и невозможно. Если сын хочет себе русскую девушку, пусть сватается к простой, хоть воспитаннице терема: такую легко подловить, что в церкви, что на базаре, как когда-то меня украли. Бедную будет даже и лучше. Наши простые девушки так же красивы, как знатные, и хотя доверчивы, но сметливы… а такая, которая при господах росла, и у себя дома виды видала. Если Вард жену хочет всему с начала учить, как Фома – меня, пусть берет такую, для которой будет заморским королевичем, и которая за грека и с греком с радостью пойдет…
Вард все понял, я знаю, – и заверил меня, что не оплошает.
Почти не сомневаюсь, что мой сын увезет отсюда невесту: и не сомневаюсь, что они будут счастливы, как мы с Леонардом. У невесты моего сына не будет Метаксии Калокир, и они заживут еще счастливее, чем мы с Леонардом… или нет? Но ничего лучшего для Варда, как и для любой его русской избранницы, я не пожелала бы.
Микитка тоже удивил. Он наконец нашел здесь друзей, умных и сердечных друзей, о которых всегда мечтал в плену, - так же страстно, как мечтал вернуть себе мужество. Владимир и Глеб тоже товарищей нашли: думаю, младшие сыны Евдокии Хрисанфовны скоро женятся здесь, и хорошо женятся. Вот кому бы вкоренять у нас греческую науку – я с нашими юношами поговорила по-хорошему, может, и займутся.
Микитка больше русский, чем я: он больше русского в себе сохранил. Может, потому, что никакая гречанка… и никакой грек не лишили его девства. Стыдно такое писать, а ведь правда: я давно с греками едина плоть и един дух. Ни любовь, ни блуд никогда без следа не проходят.
Мардоний мучается, видя, что он у своего евнуха уже не один свет в окошке, - а я очень рада за Микитку и очень за него боюсь. Мардоний ведь хочет с ним остаться! Ни жены ему не жалко, ни друга: Рафаэла ведь изведет Микитку из ревности, у нее духу хватит… а если нет, итальянка сама здесь насмерть простудится или второе дитя свое застудит. Им никогда к нашим зимам не привыкнуть, как и к нашему труду. Вот отчего русская сердечность идет: дорого нам наша жизнь достается.
Может, Микитка, разумник, и уговорит своего македонца уехать: или комес его силой увезет. Так только и осталось действовать. Оторвет от Мардония комес запретную любовь, как меня оторвал от Феофано.
Где-то теперь ты, моя любовь? Не наездишься, не находишься – разорвется сердце.
Если Мардоний уедет, он Микитку больше не увидит: это уж я говорю. Заедят его в Италии. Хотя всех нас там заедят, только дай слабину.
А я сейчас больше всего на свете хочу уехать – назад… домой. Даже если бы не хотела, нужно уехать: Вард может взять себе жену здесь и даже повенчаться у нас в Москве, чтобы потом увезти супругу с собой, а девочкам моим можно выйти замуж только за греков.
Помнится, госпожа Кассандра мне сказала в день смерти Анны: уезжай, тебе нечего больше здесь делать. Это она меня домой прогоняла, на Русь.
А теперь наконец у себя дома, в Москве, я когда иду по улицам с моими греками или еду, читаю на лицах у наших людей: уезжай, гречанка, ты чужая нам. Микитку приняли обратно, а меня назад уже не возьмут. Женщины когда меняются, меняются необратимо: как перепаханная земля…
Наши русские люди с нами сердечны, как всегда были, – но как с гостями.
Нужно опять пойти с Леонардом в Успенский собор*, помолиться… хотя того, что я хочу, православный бог не делает.
Больше всего на свете я хотела бы всю ту красоту, силу, чудеса, что я узнала у греков, перенести на нашу родную землю и здесь вкоренить. Как по-новому все эти богатства тогда расцветятся! Какую новую силу обретет греческая сила! Как наши народы напитают друг друга!
Если такое и сбудется, то не волею ветхого православного бога, и не при нашей жизни: но так хотелось бы знать, что мы жили и страдали не зря!
Где ты, Феофано? Твои глаза всего этого не увидят: пусть же тебе хотя бы приснится моя хоть и деревянная, а златоглавая государыня Москва. Что бы ты сказала о наших женщинах? Наверное, то же, что и Леонард: что они как персиянки, только северные. Видишь, как близки наши народы, – а обняться никак не могут!
Бог навеки разделил все народы и языки, когда ставили Вавилонскую башню, - куда ни пойди, придешь в древнюю Азию.
Теперь я лягу спать, и ко мне придет мой любимый муж: но пусть сегодня во сне я увижу тебя, филэ. Я бы к тебе на крыльях полетела через все моря.
Радуйся – радуйся без меня, если можешь".
* Имеется в виду собор Ивана I Калиты, стоявший на месте Успенского собора, возведенного под руководством итальянского зодчего Аристотеля Фиораванти. В 1471 году старый собор был предназначен к сносу из-за ветхости.
Re: Ставрос
Глава 172
В канун первого Рождества, которое русская пленница встречала на Руси, она почувствовала себя опять в тягости. Способы защиты, которым ее научила Феофано, которые знали и русские травницы, помогали – но далеко не всегда.
Леонард был и рад, и встревожен, - и особенно нежен с ней. Теперь супруги особенно горячо заспорили, когда ехать назад: зимовать им со своими кораблями так и так предстояло на Руси, хотя Леонард и закончил здесь все торговые дела. И долгий и утомительный путь на юг, "в греки", - к Черному морю, когда приходилось тащить суда волоком и переправлять по рекам, - а после того долгий путь морем могли оказаться роковыми для младенца, если не для матери. Путь ромеев по суше был выверенной веками дорогой русских и греческих купцов, а дорога по морю еще длиннее, чем до Константинополя. Хотя опытнейший мореход проделал этот путь, ни разу прежде того не бывав на Руси, и здесь мог взять русских проводников, риск мог оказаться слишком велик.
Феодора знала, и Леонард знал, что в первые месяцы особенно велика опасность скинуть младенца, если случится непредвиденное. За себя Феодора не так боялась, как за дитя: она чувствовала, что все еще крепка и сильна. Но теперь Леонард всерьез заговорил о том, чтобы перестоять здесь, в Москве, пока его жена не родит. Хотя все комесовы люди уже роптали.
- Но если перестоять, уже будет осень, - возразила московитка, - как мы выступим? Нет, лучше отправиться в путь, как только будет можно!
А про себя она продолжала бояться за Микитку, как и за все их маленькое греческое братство, – рыжая дочь Моро просто исходила ненавистью, видя перед глазами своего соперника в сердце мужа. Даже сам Мардоний опасался теперь приближаться к своей итальянке. А что будет, когда они вернутся в Италию?
Наконец Леонард и Феодора порешили на том, что отправятся обратно весной, как только сойдет лед. До этих пор следовало сделать все и для тех, кто уезжал, и для тех, кто оставался.
Вскоре Вард пришел к матери с обещанной невестой, московиткой Екатериной, – Феодора была изумлена, разочарована… это и в самом деле оказалась совсем простая сенная девушка, которая всего дичилась и почти ничего не знала. Такая, какой была сама Желань до своего пленения. Но, как и в той Желани, в этой девице была и красота, и неведомые пока силы, которые следовало пробудить.
Феодора улыбнулась девушке и успокоила будущую невестку, напуганную собранием таких богатых иноземных господ. Жена комеса сама взялась за воспитание Екатерины, пока было время.
Когда снег начал таять, северное солнце пригрело и запели птицы, Леонард засобирался в дорогу.
Феодора была здорова, а больше в его отряде никаких беременностей не случилось: Вард обвенчался со своей Екатериной, но они условились, что супружескую жизнь начнут только после возвращения в Италию. А Мардоний все эти месяцы, после смерти сына и той страшной ссоры с Рафаэлой, не прикасался к своей жене.
Микитка ласковыми и разумными словами уговорил друга уехать, однако знал, что обрекает его этим на несчастье – возможно, гораздо большее, чем себя, и на всю оставшуюся жизнь. Однако Мардоний Аммоний был осмотрительнее своего отца, и все еще чувствовал на себе тяжкий гнет Валентовых грехов. Он согласился подчиниться общему благу.
- Может быть, Моро меня отравят, как только я вернусь, - смеялся македонец. – Что ж, тем лучше!
Микитка обнимал побратима, увещевал, точно мать, и, точно мать, водил македонца в церковь, где молился за них обоих. Мардоний не мог молиться словами православных молитв, хотя прекрасно знал их; но когда он слушал старшего друга, ему становилось легче. В такие минуты он даже надеялся на мир в своей семье.
Когда отряд был готов двинуться в путь, все, по настоянию Феодоры, отправились на службу в храм: хотя ее греки, как и она сама, не отличались особенным благочестием, давно всею жизнью своей проверив христианские обычаи на ветхость. Однако в русских храмах греческими гостями ощущалась та святость, которой не чувствовалось в храмах греческих и в католических, - какое-то согласное усилие русского духа, направленное к миру и благоволению во всех людях.
Отстояв вечерню, греки вышли на улицу с каким-то новым чувством: будто их осенило благословение нового могучего бога.
"А предки мои молились Перуну, и с Перуном своим ходили на Царьград, вешая свои щиты на его воротах, - размышляла Феодора, шагая под руку с мужем. – У Перуна была тогда сила! Как же сила эта переходит от одного бога к другому? В людях господня мощь, а не в идолах…"
Мардоний после службы сразу же пошел к жене: Рафаэла, как и Магдалина, отказались идти с остальными в православный храм. Но Феодора чувствовала, что в этот вечер македонец не поссорится с женой.
Феодора горячо и ласково простилась со своими русами – все московиты не сдерживали слез: знали, что, скорее всего, расстаются навеки.
Владимир и Глеб уже основали маленькую школу, в которую приходило несколько русских учеников, - юные сыновья Евдокии Хрисанфовны выделялись ученостью даже среди старших, как прежде в Италии, так и в Московии: хотя на Руси встречались весьма ученые люди. Однако немногие из этих ученых людей прошли свою науку на родине римской и греческой науки.
Юноши очень благодарили свою наставницу, а она только улыбалась, утирая слезы, переводя взгляд с одного красивого светлого лица на другое. Владимир и Глеб, как и Микитка, уродились красотой в мать, хотя статью пошли в отца-воина. Когда-то еще она увидит такие родные черты?
Мардоний стоял далеко позади, рядом с женой: он простился с Микиткой вдали от чужих глаз, и теперь им обоим достоинство не позволяло выказать свои чувства. Рафаэла крепко держала мужа под руку, и у македонца был мрачный вид – Мардоний как никогда напоминал отца Валента в минуту осознания своих дел и своего будущего. Хотя сам молодой македонец жил намного честнее Валента… но не грехи ли отцов пали на детей? Кто может знать, как это происходит, - кто может быть человеку последним судьей?
Потом женщины сели в повозки, а мужчины на коней; Мардоний только коротко взглянул на своего евнуха и отвернулся. Он вспомнил, как по дороге вперед они отбились от разбойников, и он, Мардоний, закрыл собой семью и любимого друга. Он убил двоих, а сам даже не был ранен. И теперь ему расплачиваться за это – расплачиваться за свою любовь, когда полководцы в бою убивают тысячи, а потом их за это производят в святые?
"Не человеку решать, что срам, а что слава", - подумал македонец.
Они поехали на север, к тому месту, где ждали их корабли.
Феодора сидела напротив Рафаэлы: обе женщины молчали, отвернувшись друг от друга, только Магдалина села рядом с госпожой, чтобы поддержать ее. Феодора обнимала руками живот, в котором только она одна пока еще видела и чувствовала жизнь, и не могла отделаться от мрачных мыслей: ее одолевало беспокойство за Феофано, какой-то неясный ужас грозил завладеть всем ее существом.
Как тогда, когда Феофано была ранена в бою, - но тогда у Феодоры болели только нога и грудь, а сейчас, вот уже несколько дней, будто кто-то убивал самую ее душу. И даже поговорить об этом было ни с кем нельзя.
Леонард наругает жену за нелепые страхи – но только потому, что сам ничего не сможет сделать, чтобы помочь Феодоре. Критянин знал, что страхи жены редко бывают нелепыми.
Всю дорогу до моря Феодора была неразговорчива и печальна, только помогала по мере сил всем, кому могла; Леонард, чувствуя, что бессилен пособить, молча поддерживал жену. Критянин знал, что половина сердца Феодоры осталась за морем, как бы она ни любила его и детей. Что там случилось? Все они узнают ответ, только если море пощадит их самих.
Когда путешественники наконец увидели Венецию, в Италии было уже жаркое лето. Феодоре осталось только два месяца до родов, и эти месяцы она должна была провести в покое, у себя в имении.
Русская жена ее сына требовала забот, но душа Екатерины полностью принадлежала Варду, в отличие от души Феодоры: и, не понимая до конца причин тревоги свекрови, Екатерина всячески старалась помочь. Феодора улыбалась счастливой новобрачной, но продолжала молчать.
Она не успокоится, пока не узнает, что с Феофано.
Чтобы пережить эти последние месяцы вдали от царицы, потребовалось терпение великомученичества.
Оказавшись дома, Феодора сразу же послала людей в имение Феофано: и узнала новость, которая поразила ее, но не удивила. Она ожидала чего-то подобного.
- Госпожа Калокир отплыла на своем корабле на Крит, еще два месяца назад, - сказали ей.
С Феофано, конечно, уехал Марк и сын Леонид: никто из оставшихся ничего не мог сказать Феодоре. А может, слугам было приказано молчать.
"Может быть, Феофано нарочно избегает встреч со мной, как Мардоний уехал от Микитки… и даже пуще того: Мардоний никогда не был истинным возлюбленным Микитки, они не отдавались друг другу всецело".
Феодора плакала, бессильно гневалась, тосковала – но трогаться с места ей было нельзя.
Леонард обещал, что свозит ее на Крит, как только станет можно: он и сам любил Феофано и боялся за нее, и ему не терпелось разузнать о ее судьбе. Но здоровье жены и ее будущего ребенка было самым главным.
Феодора родила третью дочь. Теперь ей пришло время рождать дочерей.
Леонард был очень рад, что все окончилось хорошо. Не ему было роптать на судьбу, по какой угодно причине: комес Флатанелос был очень щедро вознагражден в своей жизни, и порою критянину казалось, что незаслуженно.
Девочку назвали Феофано.
Феодора в сельском уединении кормила и нянчила дочь полгода – и когда прошло шесть месяцев, московитка объявила мужу, что больше не может ждать. К этому времени и жена Варда была уже тяжела; но Феодора была намерена оставить ее на попечение сына, а свое дитя взять с собой в морское путешествие. Она должна была узнать, что произошло с любовью всей ее жизни.
Слишком страшны были сны, которые посещали постель Феодоры: каждый сон был как крушение греческой империи, великолепное крушение мирового духа, после которого не остается ничего.
Леонард согласился отвезти жену на Крит. Там все еще жил и воспитывался Александр, сын Фомы Нотараса… может быть, они найдут его? И знать, что с Феофано, было необходимо всем: многие греки спрашивали об этом, страдали по царице амазонок, но никто не смел отправиться на ее розыски, зная, что последняя императрица Византии искала уединения.
Прибыв на остров вместе с мужем, Феодора сразу запросилась посетить кносские развалины: какое-то предчувствие влекло ее туда, которое стало необоримым, едва московитка ступила на белый песок. Ее влекло к разрушенному дворцу, будто корабельными канатами.
Леонард приказал оседлать для них лошадей, взяв небольшую охрану. Он почти знал, почти видел, что найдет там, во дворце своих предков.
Они еще не доехали до дворца, как вдруг навстречу им заспешили какие-то люди: по-видимому, укрывавшиеся в одной из глинобитных хижин, сохранившихся на месте древних минойских жилищ.
- Ты – госпожа Феодора? А ты – комес Флатанелос? – воскликнул грек: все эти люди, без сомнения, были греки.
Человек, заговоривший с ними, схватил Борея за повод, не давая гостям опомниться. Рука Леонарда дернулась к мечу. Но встречающий воскликнул:
- Я друг! Я знаю, что вы ищете!
Феодора спрыгнула с лошади. Она чуть не упала на руки незнакомому критянину, не замечая уже никакой опасности.
- Феофано?.. Она…
- Идем со мной! Это близко! – велел ей критянин.
- Боже мой, - прошептала Феодора, прижавшись к безмолвному мужу. Леонард тоже спешился, и из его могучего тела будто ушла сила при словах незнакомца: плечи моряка опустились и лицо посерело.
- Феофано мертва? – спросил комес.
Проводник молча сделал супругам знак.
Они обошли черно-красные развалины дворца, и около источника, в пустынном месте, проводник остановился над большой глыбой известняка. С заметным усилием он отвалил камень.
Феодора, не чуя под собой ног, опустилась на колени и провела рукой по беломраморной плите.
- "Никакого подчинения никакому мужу", - прочитала она греческую надпись. Всхлипнув, Феодора грудью упала на надгробие и обхватила его руками.
"Никакого подчинения никакому мужу" - такова была знаменитая клятва безмужних воительниц из города Темискира.
Когда Феодора наконец смогла говорить, она обратилась к проводнику:
- Как это случилось?
Критянин смотрел на нее с безмолвным уважением к ее скорби. Московитка, сидя над могилой своей филэ, ощущала себя так, точно из нее вынули душу… но вместе с этой мукой стало и легче. Кончилось ожидание страшнейшего.
- Как она умерла? – повторил вопрос жены и Леонард, привлекая Феодору к себе за плечи. – Или это… фальшивка? – воскликнул комес.
Леонард вдруг вспомнил, сколько обманных могил знаменитых героев греки окружали легендами, чтобы вводить в заблуждение приезжих.
Проводник покачал растрепанной полуседой головой.
- Нет, господин, - серьезно и почтительно ответил он. – Здесь и вправду вот уже пять месяцев как погребена царица Феофано, и мы чтим это место как свою святыню. Она была убита… убита здесь же, в кносских руинах, куда приехала со своим воином.
- И никто не схватил убийцу? – воскликнула Феодора. – И Марк не нашел его?
Проводник усмехнулся.
- Спартанцы никогда не умели и не желали беречься от случайных стрел и других подлых ловушек. Выследить убийцу было почти невозможно: он стрелял из укрытия, вы сами видите, сколько их здесь… а потом ускакал.
Критянин помолчал.
- Думаю, это был не враг царицы, а друг.
Феодора вздохнула, борясь с рыданиями, и перекрестилась.
Ей начало казаться, что она понимает…
Проводник посмотрел прямо в карие глаза московитки, и она закраснелась под этим взглядом.
- Меньше всего Феофано хотела бы увидеть жалость в твоих глазах, госпожа. Время не щадит никого… она хотела уйти такой же великой царицей, первой из всех, какой ты помнила ее.
Проводник склонил голову и погладил надпись на плите.
- Ее возлюбленный, лаконец Марк, сказал, что она улыбнулась перед смертью.
Феодора, зажмурившись, прижалась к груди своего мужа: они долго молчали. Леонард прикрыл беззащитную голову жены от яростного дневного солнца, а потом спросил проводника:
- Кто же повелел сделать эту надпись? Она сама?
- Нет… ее супруг, Марк.
Тут Феодора выпрямилась и отбросила руку Леонарда.
- Марк? Но разве он не мечтал заполучить Феофано для себя одного? Как мог мужчина…
Проводник улыбнулся.
- Конечно, ее муж мечтал об этом, - сказал грек, неведомо каким образом посвященный во все их сокровенные семейные тайны. – Но он любил ее, госпожа, и первенствующими для него всегда были желания Феофано…
- А где сейчас Марк – и их сын, Леонид? – спросила Феодора тихо.
- Они уехали, а куда, нам неведомо, - ответил проводник. – Этот мальчик уже совсем взрослый воин… может быть, ты встретишься с ним и его отцом, но я сомневаюсь, что Марк этого захочет.
Критянин закутался в выцветший плащ.
- Ты знала царицу Феофано с той стороны, которая была неведома ни одному из мужчин. В душе этой великой женщины была комната, где вы встречались и любили друг друга, - и Марк никогда не нарушал неприкосновенности этого места, пока царица была жива. Неужели ты думаешь, госпожа, что муж Феофано осквернит ваше святилище после ее смерти?
Феодора медленно покачала головой.
Она вновь высвободилась из рук мужа и, опустившись на горячий песок, прижалась щекой к надгробию. Московитка долго лежала так, будто одна из всех слышала зов мертвой, - и никто из мужчин не смел коснуться ее плеча.
- Я хочу, чтобы здесь выбили еще одну надпись… под этой первой, - наконец тихо проговорила русская пленница. – "Гноти сеаутон".
"Познай себя" - то, для чего живет на свете каждый.
В канун первого Рождества, которое русская пленница встречала на Руси, она почувствовала себя опять в тягости. Способы защиты, которым ее научила Феофано, которые знали и русские травницы, помогали – но далеко не всегда.
Леонард был и рад, и встревожен, - и особенно нежен с ней. Теперь супруги особенно горячо заспорили, когда ехать назад: зимовать им со своими кораблями так и так предстояло на Руси, хотя Леонард и закончил здесь все торговые дела. И долгий и утомительный путь на юг, "в греки", - к Черному морю, когда приходилось тащить суда волоком и переправлять по рекам, - а после того долгий путь морем могли оказаться роковыми для младенца, если не для матери. Путь ромеев по суше был выверенной веками дорогой русских и греческих купцов, а дорога по морю еще длиннее, чем до Константинополя. Хотя опытнейший мореход проделал этот путь, ни разу прежде того не бывав на Руси, и здесь мог взять русских проводников, риск мог оказаться слишком велик.
Феодора знала, и Леонард знал, что в первые месяцы особенно велика опасность скинуть младенца, если случится непредвиденное. За себя Феодора не так боялась, как за дитя: она чувствовала, что все еще крепка и сильна. Но теперь Леонард всерьез заговорил о том, чтобы перестоять здесь, в Москве, пока его жена не родит. Хотя все комесовы люди уже роптали.
- Но если перестоять, уже будет осень, - возразила московитка, - как мы выступим? Нет, лучше отправиться в путь, как только будет можно!
А про себя она продолжала бояться за Микитку, как и за все их маленькое греческое братство, – рыжая дочь Моро просто исходила ненавистью, видя перед глазами своего соперника в сердце мужа. Даже сам Мардоний опасался теперь приближаться к своей итальянке. А что будет, когда они вернутся в Италию?
Наконец Леонард и Феодора порешили на том, что отправятся обратно весной, как только сойдет лед. До этих пор следовало сделать все и для тех, кто уезжал, и для тех, кто оставался.
Вскоре Вард пришел к матери с обещанной невестой, московиткой Екатериной, – Феодора была изумлена, разочарована… это и в самом деле оказалась совсем простая сенная девушка, которая всего дичилась и почти ничего не знала. Такая, какой была сама Желань до своего пленения. Но, как и в той Желани, в этой девице была и красота, и неведомые пока силы, которые следовало пробудить.
Феодора улыбнулась девушке и успокоила будущую невестку, напуганную собранием таких богатых иноземных господ. Жена комеса сама взялась за воспитание Екатерины, пока было время.
Когда снег начал таять, северное солнце пригрело и запели птицы, Леонард засобирался в дорогу.
Феодора была здорова, а больше в его отряде никаких беременностей не случилось: Вард обвенчался со своей Екатериной, но они условились, что супружескую жизнь начнут только после возвращения в Италию. А Мардоний все эти месяцы, после смерти сына и той страшной ссоры с Рафаэлой, не прикасался к своей жене.
Микитка ласковыми и разумными словами уговорил друга уехать, однако знал, что обрекает его этим на несчастье – возможно, гораздо большее, чем себя, и на всю оставшуюся жизнь. Однако Мардоний Аммоний был осмотрительнее своего отца, и все еще чувствовал на себе тяжкий гнет Валентовых грехов. Он согласился подчиниться общему благу.
- Может быть, Моро меня отравят, как только я вернусь, - смеялся македонец. – Что ж, тем лучше!
Микитка обнимал побратима, увещевал, точно мать, и, точно мать, водил македонца в церковь, где молился за них обоих. Мардоний не мог молиться словами православных молитв, хотя прекрасно знал их; но когда он слушал старшего друга, ему становилось легче. В такие минуты он даже надеялся на мир в своей семье.
Когда отряд был готов двинуться в путь, все, по настоянию Феодоры, отправились на службу в храм: хотя ее греки, как и она сама, не отличались особенным благочестием, давно всею жизнью своей проверив христианские обычаи на ветхость. Однако в русских храмах греческими гостями ощущалась та святость, которой не чувствовалось в храмах греческих и в католических, - какое-то согласное усилие русского духа, направленное к миру и благоволению во всех людях.
Отстояв вечерню, греки вышли на улицу с каким-то новым чувством: будто их осенило благословение нового могучего бога.
"А предки мои молились Перуну, и с Перуном своим ходили на Царьград, вешая свои щиты на его воротах, - размышляла Феодора, шагая под руку с мужем. – У Перуна была тогда сила! Как же сила эта переходит от одного бога к другому? В людях господня мощь, а не в идолах…"
Мардоний после службы сразу же пошел к жене: Рафаэла, как и Магдалина, отказались идти с остальными в православный храм. Но Феодора чувствовала, что в этот вечер македонец не поссорится с женой.
Феодора горячо и ласково простилась со своими русами – все московиты не сдерживали слез: знали, что, скорее всего, расстаются навеки.
Владимир и Глеб уже основали маленькую школу, в которую приходило несколько русских учеников, - юные сыновья Евдокии Хрисанфовны выделялись ученостью даже среди старших, как прежде в Италии, так и в Московии: хотя на Руси встречались весьма ученые люди. Однако немногие из этих ученых людей прошли свою науку на родине римской и греческой науки.
Юноши очень благодарили свою наставницу, а она только улыбалась, утирая слезы, переводя взгляд с одного красивого светлого лица на другое. Владимир и Глеб, как и Микитка, уродились красотой в мать, хотя статью пошли в отца-воина. Когда-то еще она увидит такие родные черты?
Мардоний стоял далеко позади, рядом с женой: он простился с Микиткой вдали от чужих глаз, и теперь им обоим достоинство не позволяло выказать свои чувства. Рафаэла крепко держала мужа под руку, и у македонца был мрачный вид – Мардоний как никогда напоминал отца Валента в минуту осознания своих дел и своего будущего. Хотя сам молодой македонец жил намного честнее Валента… но не грехи ли отцов пали на детей? Кто может знать, как это происходит, - кто может быть человеку последним судьей?
Потом женщины сели в повозки, а мужчины на коней; Мардоний только коротко взглянул на своего евнуха и отвернулся. Он вспомнил, как по дороге вперед они отбились от разбойников, и он, Мардоний, закрыл собой семью и любимого друга. Он убил двоих, а сам даже не был ранен. И теперь ему расплачиваться за это – расплачиваться за свою любовь, когда полководцы в бою убивают тысячи, а потом их за это производят в святые?
"Не человеку решать, что срам, а что слава", - подумал македонец.
Они поехали на север, к тому месту, где ждали их корабли.
Феодора сидела напротив Рафаэлы: обе женщины молчали, отвернувшись друг от друга, только Магдалина села рядом с госпожой, чтобы поддержать ее. Феодора обнимала руками живот, в котором только она одна пока еще видела и чувствовала жизнь, и не могла отделаться от мрачных мыслей: ее одолевало беспокойство за Феофано, какой-то неясный ужас грозил завладеть всем ее существом.
Как тогда, когда Феофано была ранена в бою, - но тогда у Феодоры болели только нога и грудь, а сейчас, вот уже несколько дней, будто кто-то убивал самую ее душу. И даже поговорить об этом было ни с кем нельзя.
Леонард наругает жену за нелепые страхи – но только потому, что сам ничего не сможет сделать, чтобы помочь Феодоре. Критянин знал, что страхи жены редко бывают нелепыми.
Всю дорогу до моря Феодора была неразговорчива и печальна, только помогала по мере сил всем, кому могла; Леонард, чувствуя, что бессилен пособить, молча поддерживал жену. Критянин знал, что половина сердца Феодоры осталась за морем, как бы она ни любила его и детей. Что там случилось? Все они узнают ответ, только если море пощадит их самих.
Когда путешественники наконец увидели Венецию, в Италии было уже жаркое лето. Феодоре осталось только два месяца до родов, и эти месяцы она должна была провести в покое, у себя в имении.
Русская жена ее сына требовала забот, но душа Екатерины полностью принадлежала Варду, в отличие от души Феодоры: и, не понимая до конца причин тревоги свекрови, Екатерина всячески старалась помочь. Феодора улыбалась счастливой новобрачной, но продолжала молчать.
Она не успокоится, пока не узнает, что с Феофано.
Чтобы пережить эти последние месяцы вдали от царицы, потребовалось терпение великомученичества.
Оказавшись дома, Феодора сразу же послала людей в имение Феофано: и узнала новость, которая поразила ее, но не удивила. Она ожидала чего-то подобного.
- Госпожа Калокир отплыла на своем корабле на Крит, еще два месяца назад, - сказали ей.
С Феофано, конечно, уехал Марк и сын Леонид: никто из оставшихся ничего не мог сказать Феодоре. А может, слугам было приказано молчать.
"Может быть, Феофано нарочно избегает встреч со мной, как Мардоний уехал от Микитки… и даже пуще того: Мардоний никогда не был истинным возлюбленным Микитки, они не отдавались друг другу всецело".
Феодора плакала, бессильно гневалась, тосковала – но трогаться с места ей было нельзя.
Леонард обещал, что свозит ее на Крит, как только станет можно: он и сам любил Феофано и боялся за нее, и ему не терпелось разузнать о ее судьбе. Но здоровье жены и ее будущего ребенка было самым главным.
Феодора родила третью дочь. Теперь ей пришло время рождать дочерей.
Леонард был очень рад, что все окончилось хорошо. Не ему было роптать на судьбу, по какой угодно причине: комес Флатанелос был очень щедро вознагражден в своей жизни, и порою критянину казалось, что незаслуженно.
Девочку назвали Феофано.
Феодора в сельском уединении кормила и нянчила дочь полгода – и когда прошло шесть месяцев, московитка объявила мужу, что больше не может ждать. К этому времени и жена Варда была уже тяжела; но Феодора была намерена оставить ее на попечение сына, а свое дитя взять с собой в морское путешествие. Она должна была узнать, что произошло с любовью всей ее жизни.
Слишком страшны были сны, которые посещали постель Феодоры: каждый сон был как крушение греческой империи, великолепное крушение мирового духа, после которого не остается ничего.
Леонард согласился отвезти жену на Крит. Там все еще жил и воспитывался Александр, сын Фомы Нотараса… может быть, они найдут его? И знать, что с Феофано, было необходимо всем: многие греки спрашивали об этом, страдали по царице амазонок, но никто не смел отправиться на ее розыски, зная, что последняя императрица Византии искала уединения.
Прибыв на остров вместе с мужем, Феодора сразу запросилась посетить кносские развалины: какое-то предчувствие влекло ее туда, которое стало необоримым, едва московитка ступила на белый песок. Ее влекло к разрушенному дворцу, будто корабельными канатами.
Леонард приказал оседлать для них лошадей, взяв небольшую охрану. Он почти знал, почти видел, что найдет там, во дворце своих предков.
Они еще не доехали до дворца, как вдруг навстречу им заспешили какие-то люди: по-видимому, укрывавшиеся в одной из глинобитных хижин, сохранившихся на месте древних минойских жилищ.
- Ты – госпожа Феодора? А ты – комес Флатанелос? – воскликнул грек: все эти люди, без сомнения, были греки.
Человек, заговоривший с ними, схватил Борея за повод, не давая гостям опомниться. Рука Леонарда дернулась к мечу. Но встречающий воскликнул:
- Я друг! Я знаю, что вы ищете!
Феодора спрыгнула с лошади. Она чуть не упала на руки незнакомому критянину, не замечая уже никакой опасности.
- Феофано?.. Она…
- Идем со мной! Это близко! – велел ей критянин.
- Боже мой, - прошептала Феодора, прижавшись к безмолвному мужу. Леонард тоже спешился, и из его могучего тела будто ушла сила при словах незнакомца: плечи моряка опустились и лицо посерело.
- Феофано мертва? – спросил комес.
Проводник молча сделал супругам знак.
Они обошли черно-красные развалины дворца, и около источника, в пустынном месте, проводник остановился над большой глыбой известняка. С заметным усилием он отвалил камень.
Феодора, не чуя под собой ног, опустилась на колени и провела рукой по беломраморной плите.
- "Никакого подчинения никакому мужу", - прочитала она греческую надпись. Всхлипнув, Феодора грудью упала на надгробие и обхватила его руками.
"Никакого подчинения никакому мужу" - такова была знаменитая клятва безмужних воительниц из города Темискира.
Когда Феодора наконец смогла говорить, она обратилась к проводнику:
- Как это случилось?
Критянин смотрел на нее с безмолвным уважением к ее скорби. Московитка, сидя над могилой своей филэ, ощущала себя так, точно из нее вынули душу… но вместе с этой мукой стало и легче. Кончилось ожидание страшнейшего.
- Как она умерла? – повторил вопрос жены и Леонард, привлекая Феодору к себе за плечи. – Или это… фальшивка? – воскликнул комес.
Леонард вдруг вспомнил, сколько обманных могил знаменитых героев греки окружали легендами, чтобы вводить в заблуждение приезжих.
Проводник покачал растрепанной полуседой головой.
- Нет, господин, - серьезно и почтительно ответил он. – Здесь и вправду вот уже пять месяцев как погребена царица Феофано, и мы чтим это место как свою святыню. Она была убита… убита здесь же, в кносских руинах, куда приехала со своим воином.
- И никто не схватил убийцу? – воскликнула Феодора. – И Марк не нашел его?
Проводник усмехнулся.
- Спартанцы никогда не умели и не желали беречься от случайных стрел и других подлых ловушек. Выследить убийцу было почти невозможно: он стрелял из укрытия, вы сами видите, сколько их здесь… а потом ускакал.
Критянин помолчал.
- Думаю, это был не враг царицы, а друг.
Феодора вздохнула, борясь с рыданиями, и перекрестилась.
Ей начало казаться, что она понимает…
Проводник посмотрел прямо в карие глаза московитки, и она закраснелась под этим взглядом.
- Меньше всего Феофано хотела бы увидеть жалость в твоих глазах, госпожа. Время не щадит никого… она хотела уйти такой же великой царицей, первой из всех, какой ты помнила ее.
Проводник склонил голову и погладил надпись на плите.
- Ее возлюбленный, лаконец Марк, сказал, что она улыбнулась перед смертью.
Феодора, зажмурившись, прижалась к груди своего мужа: они долго молчали. Леонард прикрыл беззащитную голову жены от яростного дневного солнца, а потом спросил проводника:
- Кто же повелел сделать эту надпись? Она сама?
- Нет… ее супруг, Марк.
Тут Феодора выпрямилась и отбросила руку Леонарда.
- Марк? Но разве он не мечтал заполучить Феофано для себя одного? Как мог мужчина…
Проводник улыбнулся.
- Конечно, ее муж мечтал об этом, - сказал грек, неведомо каким образом посвященный во все их сокровенные семейные тайны. – Но он любил ее, госпожа, и первенствующими для него всегда были желания Феофано…
- А где сейчас Марк – и их сын, Леонид? – спросила Феодора тихо.
- Они уехали, а куда, нам неведомо, - ответил проводник. – Этот мальчик уже совсем взрослый воин… может быть, ты встретишься с ним и его отцом, но я сомневаюсь, что Марк этого захочет.
Критянин закутался в выцветший плащ.
- Ты знала царицу Феофано с той стороны, которая была неведома ни одному из мужчин. В душе этой великой женщины была комната, где вы встречались и любили друг друга, - и Марк никогда не нарушал неприкосновенности этого места, пока царица была жива. Неужели ты думаешь, госпожа, что муж Феофано осквернит ваше святилище после ее смерти?
Феодора медленно покачала головой.
Она вновь высвободилась из рук мужа и, опустившись на горячий песок, прижалась щекой к надгробию. Московитка долго лежала так, будто одна из всех слышала зов мертвой, - и никто из мужчин не смел коснуться ее плеча.
- Я хочу, чтобы здесь выбили еще одну надпись… под этой первой, - наконец тихо проговорила русская пленница. – "Гноти сеаутон".
"Познай себя" - то, для чего живет на свете каждый.
Re: Ставрос
Эпилог
Феодора и Леонард прожили в любви и согласии еще четырнадцать лет, родив еще одного сына, который получил имя отца. Александр Нотарас так и не был найден – но, зная родителя Александра, встречи с похищенным мальчиком можно было ожидать когда угодно.
Комес Флатанелос еще дважды плавал в Московию – в первый раз он привез ждавшей его дома жене привет от Микитки и его братьев, которые благополучно обзавелись семьями, а во второй привез вести о смерти русского евнуха. Паракимомен последнего Палеолога пережил своего государя на двадцать шесть лет: весьма долгий срок и целая человеческая жизнь.
Мардоний, к этому времени ставший отцом троих живых сыновей и одной дочери, живший с женой если не счастливо, то мирно, услышав новость о смерти побратима, как будто опять перенесся в тот день, когда простился с Микиткой навеки… в тот день, когда русский евнух признался, что разделил бы страсть Мардония, если бы был здоров.
В тот день, когда Микитка спас Валентова сына от турок и от участи наложника: когда они нашли друг друга.
Македонец рыдал, скрывшись от всех, целуя русую вьющуюся прядь, которую до сих пор хранил в своем медальоне. И Рафаэла наблюдала эту скорбь, уже не испытывая ревности и почти разделяя чувства мужа.
За те долгие годы, что они прожили вместе как добрые супруги, итальянка узнала, почему Мардоний был так привязан к своему увечному другу и чем он был ему обязан. И, несмотря на эту запретную любовь, - а может, и благодаря ей, - их брак не разбился, а ее мужа Господь охранил: Мардоний и Рафаэла надолго пережили родителей итальянки и других старших могущественных родственников, грозивших македонцу смертью.
Феодора так и не встретилась с Марком, но встретилась с его сыном.
Юный лаконец прискакал в имение Флатанелосов один: и передал итальянскому привратнику, что желает поговорить с госпожой с глазу на глаз. Сам не зная почему, итальянец почувствовал к гостю доверие и пригласил хозяйку выйти к нему за ворота.
Феодора сразу же догадалась по описанию приезжего, кто хочет ее видеть: она едва справилась с волнением. Укрепившись, вспомнив заветы своей возлюбленной подруги, московитка вышла к Леониду.
Юноша стоял, держа под уздцы богатырского коня; когда госпожа дома подошла, Леонид посмотрел ей прямо в глаза и улыбнулся, обойдясь таким безмолвным приветствием. Черные по-военному коротко стриженные волосы, стальной блеск серых глаз и сила, таившаяся за молчаливостью и сдержанным достоинством этого юноши, сразу напомнили Феодоре обоих его родителей.
Феодора хотела заговорить с ним, но слова застряли в горле: слишком много нужно было сказать, для этого мало целой жизни!
Московитка вдруг поняла, что видит вместо юного лаконца его безвозвратно ушедшую мать, - она стиснула зубы, удерживая рыдания.
Леонид, по-прежнему не говоря ни слова, запустил руку за пазуху и достал сложенный пергаментный лист.
- Мать завещала мне незадолго перед смертью передать это тебе… прости, я смог выполнить ее просьбу только теперь, - улыбнулся юноша.
Феодора, благоговейно взяв пергамент, который хранила для нее ее филэ, разглядела начертанную черной тушью карту. Нахмурившись, с екнувшим сердцем московитка вскинула глаза на Леонида.
– Это карта кносского дворца, - пояснил гость.
Феодора судорожно вздохнула; Леонид, кивнув, потупил взор почтительно и скорбно.
- Да, госпожа, это рядом с гробницей матери… и с гробницей критских царей, - сказал он. – Мать с отцом решили, что это место лучше всего подходит для сохранения ваших сочинений. Эти бумаги опасно держать в близости от Рима - и в любых католических владениях. Только смешать их с прахом свободных язычников… как прах царицы Феофано.
Феодора едва удержала возглас изумления и радости. Так вот где Феофано хранила свои и ее записки! Московитка уже не раз предпринимала попытку найти их в доме подруги, но безуспешно; и с этих пор надеялась только на предусмотрительность Феофано. Как оказалось, не напрасно, - как и стала наконец ясна цель, которая привела лакедемонянку на Крит.
- Вот здесь, - смуглый палец с почерневшим ногтем указал на красный крестик, который Феодора уже и сама заметила на карте. – Ты можешь отправиться туда и найти ваши работы, а можешь прибавить к ним свои. Только сыщи верного человека, который будет хранителем вашей с матерью тайны. Я знаю эту тайну, но таких хранителей никогда не хватает.
Феодора улыбнулась, восхищенная юношей.
- Я так и сделаю, - сказала она.
Леонид поклонился ей; потом вскочил в седло. Феодора поняла, что больше этого юношу ничто не задержит, - он все сказал и все исполнил.
Она отступила и помахала сыну Феофано рукой. Леонид поднял руку, коротко махнул хозяйке – и дал шпоры. Он унесся прочь неудержимо, как персидский конник, с которыми когда-то его предки, древние спартанцы, сражались пешими.
Леонарда Флатанелоса в доме не было, он приехал только через несколько часов; и, узнав, кто побывал у них в его отсутствие, напустился на жену.
- Почему ты не пригласила его задержаться?
- Он не остался бы, - Феодора покачала головой. – Леонид все сказал мне: он немногословен, как его отец… а втроем нам не о чем говорить.
Критянин печально улыбнулся.
- Это правда.
Комес, однако, попросил жену рассказать, о чем она беседовала с сыном Феофано, и Феодора не стала таиться. Леонард Флатанелос полностью одобрил тайник, выбранный лакедемонянкой. Только в таких местах и осталось ныне сохранять для потомства отчаянно смелые женские мысли.
Феодора приехала на Крит только через десять лет после встречи с сыном Феофано. Мужа она похоронила два года назад – и младшему их сыну, Леонарду Флатанелосу, сейчас было девять.
Московитка привезла с собой записки, которые пополнялись еще долгое время после смерти Феофано, – хотя так плодотворно, как при жизни лакедемонянки, Феодора больше не мыслила. Старость подкрадывалась и к ней.
Феодора, взяв нескольких воинов и помощников, прискакала к кносским руинам; и они долго разыскивали тайник Феофано. Пришлось зажечь факелы: искали хранилище до сумерек, но наконец нашли. Юный лаконец не обманул – все бумаги, зарытые в сухую землю в углу одного из внутренних двориков и завернутые в прочную кожу, нисколько не пострадали от времени.
Феодора положила в тайник собственные последние сочинения – и наказала своим людям, если что случится с ней самой, запомнить это место. Потом московитка попросила оставить ее одну.
Взяв лампу, она отправилась к священному месту, которое видела лишь однажды и не посещала с тех пор много лет; но нашла его Феодора безошибочно.
Она поставила лампу на землю и опустилась на колени рядом с камнем, придавившим надгробие Феофано.
А потом московитка встала и, схватившись за камень, уперлась – и, вскрикнув, с неженской силой откатила его в сторону. Она потерла руки и засмеялась.
- Видишь, я все еще помню, чему ты учила меня! – сказала Феодора.
Потом она опять опустилась на колени и воззрилась на белую плиту с эпитафией на ней, как другие женщины смотрят на распятие в церкви. Феодора склонилась и поцеловала холодный камень; потом опустилась на землю и прижалась к мраморной плите щекой.
- Как давно мы не были вместе, - прошептала она. – Сколько мне нужно рассказать тебе, моя любовь!
Московитка вдруг засмеялась.
- Ты знаешь, что у Фомы был кинжал в рукаве, он хотел им исподтишка ударить во время поединка… мы нашли этот кинжал, когда закапывали патрикия! Господи! Комесу я так и не сказала ничего.
Она помолчала, лежа в обнимку с могильным камнем.
- Как я тоскую, Метаксия, - прошептала Феодора. – А ведь я до сих пор не знаю, здесь ты лежишь или нет… вдруг нас обманули? Вдруг твой сын тоже обманул меня? Лаконцы тоже прекрасно умеют лгать, когда это нужно своим… А если ты еще жива, а я ничего не знаю?
Феодора вдруг села на колени, потом встала. Огляделась… ей стало мучительно и хорошо, как будто душа опять задрожала от суровой музыки речей лакедемонянки, тело задрожало и запылало от ее близости, наполняясь жизнью. Русской пленнице вдруг показалось, что за нею наблюдают сверху из руин, что ее безжалостно выцеливают… и Феодора улыбнулась. Сердце сжало предчувствие последнего мига – главного мига жизни.
Она вдруг поняла, что где бы Феофано ни была, скоро она опять обретет ее, чтобы никогда больше не потерять. Феодора дерзко подняла голову, и ветер подхватил ее распущенные волосы.
- Пришло мое время… наше, - прошептала русская пленница.
Феодора и Леонард прожили в любви и согласии еще четырнадцать лет, родив еще одного сына, который получил имя отца. Александр Нотарас так и не был найден – но, зная родителя Александра, встречи с похищенным мальчиком можно было ожидать когда угодно.
Комес Флатанелос еще дважды плавал в Московию – в первый раз он привез ждавшей его дома жене привет от Микитки и его братьев, которые благополучно обзавелись семьями, а во второй привез вести о смерти русского евнуха. Паракимомен последнего Палеолога пережил своего государя на двадцать шесть лет: весьма долгий срок и целая человеческая жизнь.
Мардоний, к этому времени ставший отцом троих живых сыновей и одной дочери, живший с женой если не счастливо, то мирно, услышав новость о смерти побратима, как будто опять перенесся в тот день, когда простился с Микиткой навеки… в тот день, когда русский евнух признался, что разделил бы страсть Мардония, если бы был здоров.
В тот день, когда Микитка спас Валентова сына от турок и от участи наложника: когда они нашли друг друга.
Македонец рыдал, скрывшись от всех, целуя русую вьющуюся прядь, которую до сих пор хранил в своем медальоне. И Рафаэла наблюдала эту скорбь, уже не испытывая ревности и почти разделяя чувства мужа.
За те долгие годы, что они прожили вместе как добрые супруги, итальянка узнала, почему Мардоний был так привязан к своему увечному другу и чем он был ему обязан. И, несмотря на эту запретную любовь, - а может, и благодаря ей, - их брак не разбился, а ее мужа Господь охранил: Мардоний и Рафаэла надолго пережили родителей итальянки и других старших могущественных родственников, грозивших македонцу смертью.
Феодора так и не встретилась с Марком, но встретилась с его сыном.
Юный лаконец прискакал в имение Флатанелосов один: и передал итальянскому привратнику, что желает поговорить с госпожой с глазу на глаз. Сам не зная почему, итальянец почувствовал к гостю доверие и пригласил хозяйку выйти к нему за ворота.
Феодора сразу же догадалась по описанию приезжего, кто хочет ее видеть: она едва справилась с волнением. Укрепившись, вспомнив заветы своей возлюбленной подруги, московитка вышла к Леониду.
Юноша стоял, держа под уздцы богатырского коня; когда госпожа дома подошла, Леонид посмотрел ей прямо в глаза и улыбнулся, обойдясь таким безмолвным приветствием. Черные по-военному коротко стриженные волосы, стальной блеск серых глаз и сила, таившаяся за молчаливостью и сдержанным достоинством этого юноши, сразу напомнили Феодоре обоих его родителей.
Феодора хотела заговорить с ним, но слова застряли в горле: слишком много нужно было сказать, для этого мало целой жизни!
Московитка вдруг поняла, что видит вместо юного лаконца его безвозвратно ушедшую мать, - она стиснула зубы, удерживая рыдания.
Леонид, по-прежнему не говоря ни слова, запустил руку за пазуху и достал сложенный пергаментный лист.
- Мать завещала мне незадолго перед смертью передать это тебе… прости, я смог выполнить ее просьбу только теперь, - улыбнулся юноша.
Феодора, благоговейно взяв пергамент, который хранила для нее ее филэ, разглядела начертанную черной тушью карту. Нахмурившись, с екнувшим сердцем московитка вскинула глаза на Леонида.
– Это карта кносского дворца, - пояснил гость.
Феодора судорожно вздохнула; Леонид, кивнув, потупил взор почтительно и скорбно.
- Да, госпожа, это рядом с гробницей матери… и с гробницей критских царей, - сказал он. – Мать с отцом решили, что это место лучше всего подходит для сохранения ваших сочинений. Эти бумаги опасно держать в близости от Рима - и в любых католических владениях. Только смешать их с прахом свободных язычников… как прах царицы Феофано.
Феодора едва удержала возглас изумления и радости. Так вот где Феофано хранила свои и ее записки! Московитка уже не раз предпринимала попытку найти их в доме подруги, но безуспешно; и с этих пор надеялась только на предусмотрительность Феофано. Как оказалось, не напрасно, - как и стала наконец ясна цель, которая привела лакедемонянку на Крит.
- Вот здесь, - смуглый палец с почерневшим ногтем указал на красный крестик, который Феодора уже и сама заметила на карте. – Ты можешь отправиться туда и найти ваши работы, а можешь прибавить к ним свои. Только сыщи верного человека, который будет хранителем вашей с матерью тайны. Я знаю эту тайну, но таких хранителей никогда не хватает.
Феодора улыбнулась, восхищенная юношей.
- Я так и сделаю, - сказала она.
Леонид поклонился ей; потом вскочил в седло. Феодора поняла, что больше этого юношу ничто не задержит, - он все сказал и все исполнил.
Она отступила и помахала сыну Феофано рукой. Леонид поднял руку, коротко махнул хозяйке – и дал шпоры. Он унесся прочь неудержимо, как персидский конник, с которыми когда-то его предки, древние спартанцы, сражались пешими.
Леонарда Флатанелоса в доме не было, он приехал только через несколько часов; и, узнав, кто побывал у них в его отсутствие, напустился на жену.
- Почему ты не пригласила его задержаться?
- Он не остался бы, - Феодора покачала головой. – Леонид все сказал мне: он немногословен, как его отец… а втроем нам не о чем говорить.
Критянин печально улыбнулся.
- Это правда.
Комес, однако, попросил жену рассказать, о чем она беседовала с сыном Феофано, и Феодора не стала таиться. Леонард Флатанелос полностью одобрил тайник, выбранный лакедемонянкой. Только в таких местах и осталось ныне сохранять для потомства отчаянно смелые женские мысли.
Феодора приехала на Крит только через десять лет после встречи с сыном Феофано. Мужа она похоронила два года назад – и младшему их сыну, Леонарду Флатанелосу, сейчас было девять.
Московитка привезла с собой записки, которые пополнялись еще долгое время после смерти Феофано, – хотя так плодотворно, как при жизни лакедемонянки, Феодора больше не мыслила. Старость подкрадывалась и к ней.
Феодора, взяв нескольких воинов и помощников, прискакала к кносским руинам; и они долго разыскивали тайник Феофано. Пришлось зажечь факелы: искали хранилище до сумерек, но наконец нашли. Юный лаконец не обманул – все бумаги, зарытые в сухую землю в углу одного из внутренних двориков и завернутые в прочную кожу, нисколько не пострадали от времени.
Феодора положила в тайник собственные последние сочинения – и наказала своим людям, если что случится с ней самой, запомнить это место. Потом московитка попросила оставить ее одну.
Взяв лампу, она отправилась к священному месту, которое видела лишь однажды и не посещала с тех пор много лет; но нашла его Феодора безошибочно.
Она поставила лампу на землю и опустилась на колени рядом с камнем, придавившим надгробие Феофано.
А потом московитка встала и, схватившись за камень, уперлась – и, вскрикнув, с неженской силой откатила его в сторону. Она потерла руки и засмеялась.
- Видишь, я все еще помню, чему ты учила меня! – сказала Феодора.
Потом она опять опустилась на колени и воззрилась на белую плиту с эпитафией на ней, как другие женщины смотрят на распятие в церкви. Феодора склонилась и поцеловала холодный камень; потом опустилась на землю и прижалась к мраморной плите щекой.
- Как давно мы не были вместе, - прошептала она. – Сколько мне нужно рассказать тебе, моя любовь!
Московитка вдруг засмеялась.
- Ты знаешь, что у Фомы был кинжал в рукаве, он хотел им исподтишка ударить во время поединка… мы нашли этот кинжал, когда закапывали патрикия! Господи! Комесу я так и не сказала ничего.
Она помолчала, лежа в обнимку с могильным камнем.
- Как я тоскую, Метаксия, - прошептала Феодора. – А ведь я до сих пор не знаю, здесь ты лежишь или нет… вдруг нас обманули? Вдруг твой сын тоже обманул меня? Лаконцы тоже прекрасно умеют лгать, когда это нужно своим… А если ты еще жива, а я ничего не знаю?
Феодора вдруг села на колени, потом встала. Огляделась… ей стало мучительно и хорошо, как будто душа опять задрожала от суровой музыки речей лакедемонянки, тело задрожало и запылало от ее близости, наполняясь жизнью. Русской пленнице вдруг показалось, что за нею наблюдают сверху из руин, что ее безжалостно выцеливают… и Феодора улыбнулась. Сердце сжало предчувствие последнего мига – главного мига жизни.
Она вдруг поняла, что где бы Феофано ни была, скоро она опять обретет ее, чтобы никогда больше не потерять. Феодора дерзко подняла голову, и ветер подхватил ее распущенные волосы.
- Пришло мое время… наше, - прошептала русская пленница.